 НАТО расставили приоритеты перед саммитом в Варшаве
НАТО расставили приоритеты перед саммитом в Варшаве
06.07.2016
06.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
НАТО расставили приоритеты перед саммитом в Варшаве
НАТО расставили приоритеты перед саммитом в Варшаве
06.07.2016
06.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
В преддверии саммита НАТО 8-9 июля в Варшаве внимание многих западных «мозговых центров» приковано к обновлению стратегии Альянса. Особый интерес вызывает доклад расположенного в США аналитического центра – «Атлантический совет» (Atlantic Council) под говорящим названием «Восстанавливая мощь и миссию НАТО» (Restoring the Power and Purpose of the NATO Alliance). Анализ документа проливает свет на дискуссии вокруг будущего НАТО, ведущиеся сегодня в военно-политическом истеблишменте США.
Кого представляет Атлантический совет?
Чтобы было понятно, почему их работу стоит выделить из остальных, надо немного рассказать о самом Атлантическом совете (Atlantic Council). Этот американский аналитический центр основан в 1961 г. и с самого создания был заточен на анализ и выработку стратегии взаимоотношений между США и Европой, формирование идеологии и принципов развития НАТО.
Хотя формально «Атлантический совет» – независимая неправительственная некоммерческая организация, фактически он работает на пожертвования правительств и представляет собой «придворный» аналитический центр НАТО. Многие его сотрудники и руководители либо были бывшими государственными служащими или политиками, либо ушли в политику после работы в Совете.
Так, текущий председатель Совета – Джон Хантсман (бывший посол в Сингапуре и Китае и губернатор штата Юта), президент – известный политолог Фредерик Кемп (известен как автор занимательного бестселлера «Берлин 1961», изданного и на русском языке). Среди высокопоставленных сотрудников можно найти и людей из Совета Национальной Безопасности при Президентах США последних администраций, и бывших послов на Украине (Джон Хёрбст, посол в 2003-2006 годах, возглавляет центр по евразийскому пространству). Это далеко не студенческий дискуссионный клуб. Обсуждаемую работу также готовили бывший постоянный представитель США при НАТО Николас Бернс и бывший Главнокомандующий войск НАТО в Европе Джеймс Логан Джонс.
Как видно из самого названия целью авторы видят возрождение Альянса, возвращение ему былой силы и целей. Что задачей НАТО еще при создании было объединение Европы под лозунгом защиты от угрозы с Востока и пояснять не надо.
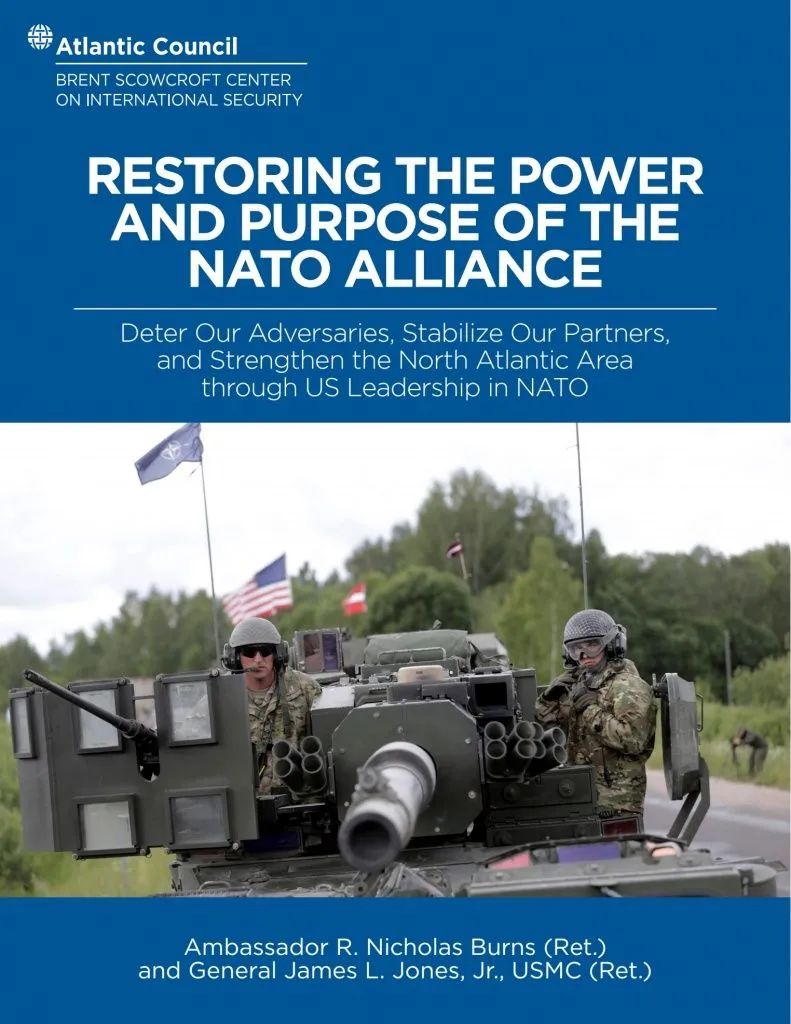
Обложка доклада «Восстанавливая мощь и миссию НАТО»
Главные тезисы доклада
-
Страны Европы должны перестать воспринимать свою безопасность как должное. Основные угрозы для трансатлантического пространства – «реваншистcкая Россия», нестабильность на Ближнем Востоке, ослабление Евросоюза, а также неопределенность и разобщенность в американских и европейских руководствах. Страны НАТО должны быть готовы ответить на эти вызовы.
-
Усиление военного присутствия на «восточном фланге» НАТО, начало строительства (пусть и усеченной) Европейской противоракетной обороны (ЕвроПРО), борьба с нелегальной миграцией «оживили» Альянс, но эти действия недостаточны.
-
Необходимо и далее продолжать усиление военного присутствия в странах Балтии и Польше – уже принятого решения размещения четырех международных бригад недостаточно. В «периметр обороны» должно быть включено и Черное море – на нем из флотов стран Альянса (Румынии, Болгарии и Турции) и союзников (Грузия и Украина) должна быть сформирована постоянная морская группировка НАТО.
-
Силовое сдерживание России должно продолжаться как минимум до тех пор пока «новое поколение россиян не согласится жить в мире со своими соседями». Санкции должны быть усилены, а на Украину надо начать поставлять оружие.
-
В Северной Атлантике должен быть восстановлен Фареро-Исландский рубеж, чтобы обеспечить безопасность судоходства, в частности, противолодочные силы должны быть возвращены в Исландию. С другой стороны, в целом Арктика должна по возможности стать местом мирного сотрудничества с Россией, необходимо минимизировать угрозу потенциального конфликта.
-
Несмотря на вышеперечисленные меры сдерживания, Альянс должен сохранить все возможные дипломатические каналы общения с Россией и проводить регулярные встречи на уровне послов, постоянных представителей и наблюдателей на учениях.
-
Члены Альянса должны увеличить военные расходы. В идеале желательно, чтобы все страны представили конкретные планы роста оборонных бюджетов, чтобы хотя бы за пятилетку достичь теоретически требуемого для всех уровня в 2% от национального ВВП, закладываемого на оборону в госбюджете. На данный момент это требование стабильно выполняется только США, Великобританией, Польшей.
-
НАТО должен продолжить поддержку законного правительства Афганистана и увеличить помощь арабским союзникам.
-
Экономика имеет ключевое значение для безопасности Альянса. Высочайший приоритет следующего президента США заключается в подписании соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве.
-
Все страны НАТО должны придерживаться демократических принципов. В этом пункте «замечание» сделали Венгрии, Польше и Турции.
-
Лидерство США в НАТО должно быть еще больше усилено. Перед следующим президентом США стоит задача усиления общественной поддержки Альянса как в США, так и в странах-членах.
-
Важно противостоять противникам Альянса в США (тут становится ясно, на чьей стороне в американской президентской гонке авторы и кого имеют в виду под «противниками»).
-
Наконец, авторы доклада убеждены:
расширение НАТО на Восток после окончания холодной войны было одним из самых важных и правильных решений Альянса за всю его историю и позволило обеспечить безопасность новой, свободной Центральной и Восточной Европы, во многом «построенной» именно благодаря этому.
Выводы
Как несложно судить, отношение текущего военно-политического истеблишмента США (а именно его, судя по всему, представляет Атлантический совет в своем докладе), к грядущему саммиту НАТО – довольно «ястребиное». Важно отметить, что доклад готовился еще до Brexit, который, несомненно, повлияет на обсуждаемые на саммите НАТО вопросы. С одной стороны, он может сменить планируемый «стройный хор» союзников, готовых как один «сдержать угрозу с Востока», на дискуссию в духе: «как дальше жить». А с другой стороны, именно на фоне Brexit НАТО будет важно продемонстрировать, что она-то, в отличие от ЕС, едина как никогда. Как пойдет дело, мы узнаем уже через неделю.
 Евразийский союз перед вызовом Трансатлантического блока США
Евразийский союз перед вызовом Трансатлантического блока США
06.07.2016
06.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Евразийский союз перед вызовом Трансатлантического блока США
Евразийский союз перед вызовом Трансатлантического блока США
06.07.2016
06.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Администрация Барака Обамы продвигает два беспрецедентных по масштабу торговых блока – Трансатлантическое партнерство (ТТИП, связка США-ЕС) и Транстихоокеанское партнерство (ТПП, связка США-страны АТР – соглашение уже подписано). Речь идет о создании зон свободной торговли, экспансии техстандартов и механизмов регулирования экономики. В недавней статье в Washington Post Обама прямо заявил, что цель этих проектов – «писать правила мировой торговли в XXI веке». Китай и Евразийский союз (ЕАЭС) остаются за границами этих объединений, что породило дискуссии об «объятиях анаконды» и «мягком экономическом удушении». Начатую Александром Перовым дискуссию на страницах «Евразия.Эксперт» о реальных и мнимых угрозах для ЕАЭС продолжает белорусский политолог Глеб Шутов.
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, как отмечается в Стратегии Национальной безопасности США и ряде европейских исследований, сулит определенную выгоду Соединенным штатам и странам Евросоюза. Однако для тех стран, которые не получили приглашения в ТТИП, создание этого «торгово-экономического монстра» сопряжено с комплексом угроз.
Новые вызовы
Вызовы, которые американо-европейский торговый альянс представляет для стран Евразийского союза, носят экономический и неэкономический характер. К экономическим вызовам можно отнести эффект реориентации торговли, ограничение доступа третьих стран на рынки ЕС и США, установление новых правил международной торговли и т.д. К неэкономическим можно отнести экологические и геополитические угрозы, а также усиление роли транснациональных корпораций (ТНК) в мировой политике и др.
Вызовы и угрозы для ЕАЭС от создания Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств проявляются на разных уровнях: от национального уровня стран-членов – до глобального.
На национальном уровне:
– Снижение экспорта. Для каждой из стран ЕАЭС подписание ТТИП несет угрозу снижения доступа на рынки ЕС и США. Беларусь может столкнуться с барьерами на пути продовольственной продукции и продуктов нефтепереработки, Россия может столкнуться с ужесточением конкуренции на европейском рынке энергоносителей. Вероятно снижение притока инвестиций в экономики стран ЕАЭС.
– Возможно усложнение условий программы ЕС «Восточное партнерство», что немаловажно для Беларуси. ТТИП приведет к изменениям европейских стандартов, а это может сказаться на условиях сотрудничества ЕС со странами-участницами ВП.
– Усиление раскола по линии Россия-Евросоюз. В экономическом плане ТТИП может негативно сказаться на товарообороте РФ с ЕС, а также создать некоторые экономические предпосылки для увеличения оборонных расходов Евросоюза.
На уровне Евразийского союза:
– В том случае, если ТТП и ТТИП станут «законодателями мод» в глобальной торговле, вероятно, что экспортировать товары и услуги на рынки торговых блоков можно будет лишь при условии принятия определенных норм в трудовой, социальной и политической сферах. В связи с этим вероятно «просачивание» некоторых норм ТТИП на уровень ЕАЭС.
– Возможен сценарий, что некоторым странам будет предложен формат ТТИП+1, что может вызвать центробежные тенденции в ЕАЭС. Хотя ТТП и ТТИП иногда рассматривают как «закрытые клубы», в американской экспертной среде есть мнение о возможности подключения КНР к ТТП в формате ТТП+1. В частности, эту точку зрения озвучивал Эван Медейрос, старший директор по делам Азии Совета национальной безопасности США. Также в КНР высказывается мнение о том, что ТТП «не полно» без Китая. Действительно, стратегия избирательного подключения других стран к союзам США в «индивидуальном порядке» позволит навязать им правила ТТП-ТТИП, сделав их действительно «глобальными правилами торговли». Вспомним, что Барак Обама заявлял о том, что глобальные правила торговли должны писать в США, но ТТП-ТТИП не охватывают весь мир, поэтому формат ТТП+Китай или ТТИП+страна ЕАЭС теоретически не исключен.
На континентальном уровне Евразии:
– Раскол Евразии, от которой, благодаря ТТП и ТТИП, США могут «откусить» Западную Европу и часть Азии.
– ТТИП может угрожать реализации китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути», что поставит под вопрос сопряжение этой инициативы с ЕАЭС.
На глобальном уровне:
– ТТП и ТТИП грозит изменить правила глобальной торговли, а также усилить неравенство между странами. ТТП и ТТИП представляют новый шаг в развитии мировой торговли, однако устанавливают и новые правила по отношению к таким, казалось бы, далеким от торговли темам, как свободные профсоюзы, госпредприятия, инвестиции, авторское право. Те страны, которые примут эти правила, получив «разрешение» сотрудничать с ТТП-ТТИП, могут получить ограниченные права доступа в «привилегированный клуб» в обмен на согласие играть по новым стандартам.
– Снижение значимости ВТО. По поводу влияния ТТП и ТТИП на ВТО нет единого мнения. Одни специалисты полагают, что ТТП не угрожает функционированию ВТО. Другие специалисты утверждают, что ТТП и ТТИП, охватывающие в проекте более 60% мирового ВВП, могут отодвинуть на задний план ВТО как законодателя правил мировой торговли. О важности соблюдения принципов ВТО, которым угрожают эксклюзивные экономические объединения (под которыми, очевидно, понимаются ТТП и ТТИП) говорил президент России Владимир Путин:
«Ряд стран пошли по пути закрытых, эксклюзивных экономических объединений, причем переговоры об их создании идут кулуарно, в тайне и от собственных граждан, от собственных деловых кругов и общественности, но и от других стран».
– Усиление разрыва между развитыми и развивающимися странами.
– Потеря рабочих мест в развивающихся странах за счет переноса производств в страны ТТИП и ТТП.
– Возрастание роли транснациональных корпораций на фоне ослабления традиционных политических институтов.
На некоторых угрозах от создания ТТИП следует остановиться подробнее.
Закрывающиеся рынки
Реориентация торговли является для стран, не входящих в торговый блок, наиболее очевидным негативным эффектом от создания ТТИП. Хотя таможенные тарифы в торговле США-ЕС и так довольно низкие, наибольший эффект может быть от снижения нетарифных барьеров. Также в рамках ТТИП возможно установление довольно жестких стандартов и правил происхождения товаров. В результате для третьих стран, к которым относятся и страны ЕАЭС, будет ограничен доступ на рынки США и ЕС. Товары из третьих стран попросту не будут соответствовать стандартам ТТП-ТТИП.
Кроме того, в рамках соглашений снимаются таможенные и нетаможенные барьеры, что дает преимущества экспортерам-членам блока перед экспортерами, не вошедшими в блоки. В наибольшей степени у тех стран, которые останутся «за бортом» ТТИП, пострадает экспорт сельскохозяйственной продукции, а также фармацевтической, химической и автотранспортной продукции.
Между тем, роль ЕС как торгового партнера для евразийских стран достаточно велика: Евросоюз является одним из основных торговых партнеров Казахстана, треть белорусского экспорта планируется поставлять на рынок ЕС. На страны ЕС приходится около 50% всего товарооборота ЕАЭС.
«Шелковый путь» под угрозой
Китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути» призван соединить западную часть КНР с Европой по морским и сухопутным транспортным коридорам. Проект окажет значительное влияние на экономику стран ЕАЭС. Однако на успешности проекта «Нового шелкового пути» могут негативно сказаться проекты трансокеанских партнерств.
Хотя обычно в качестве угрозы для КНР рассматривают Транстихоокеанское партнерство, ориентированное на Азиатско-Тихоокеанский регион, ТТИП также беспокоит китайских аналитиков. Ведь рынок ЕС является привлекательным для китайских производителей, а индекс сходства экспорта (Export Sіmіlarіty Іndex) КНР и США достаточно высок. Если посмотреть, какие отрасли американского экспорта выиграют от ТТИП, то можно увидеть, что по многим статьям американский экспорт пересекается с теми статьями экспорта, которые Китай хочет поставлять в ЕС по «Шелковому пути».
По подсчетам Центра экономической дипломатии при Уханьском университете, эффект реориентации торговли (trade diversion) при заключении ТТИП обойдется для китайского экспорта в 200 млрд. евро. Цуй Хонгзян из Китайского института международных исследований также прогнозирует снижение китайского экспорта в ЕС как результат действия ТТИП.
ТТИП и «газовые войны»
Со времени начала переговоров по ТТИП ситуация на рынке энергоресурсов значительно изменилась. Значительно снизились цены на нефть, что обострило конкуренцию на газовом рынке. По словам Сьюзан Сакмар, специалиста по газовому рынку из Хьстонского университета, «начались газовые войны».
Сжиженный природный газ (СПГ) составляет 13% от импорта газа в ЕС, основной поставщик СПГ в ЕС – Катар, основные поставщики природного газа в ЕС – Россия, Норвегия и Алжир.
К 2020 году ожидается возрастание мирового экспорта СПГ на 40%, при этом основными экспортерами станут США и Австралия, европейский импорт СПГ удвоится к 2020 году. Импорт СПГ рассматривается Евросоюзом как одно из средств обеспечения энергетической безопасности. В частности, согласно принятому 10 февраля этого года Пакету энергетической безопасности, страны ЕС планируют укреплять устойчивость союза к дефициту энергоресурсов и наращивать импорт СПГ.
По словам Барака Обамы, подписание соглашения о ТТИП позволит упростить поставки американского сжиженного природного газа в ЕС. Несмотря на то, что в ЕС уже прибыл первый танкер с американским сжиженным природным газом, Европе пока что выгоднее покупать российский газ.
Соглашение о энергетической главе ТТИП пока что не достигнуто. Однако известно, что ЕС настаивает на расширении сотрудничества с США именно в этой сфере. Переговорная позиция ЕС состоит в том, чтобы снять все ограничения в торговле топливно-энергетическими ресурсами. Как может ТТИП сказаться на экспорте российского газа в ЕС?
Во-первых, как говорилось ранее, ТТИП предполагает отмену всех ограничений в торговле энергоносителями. И, например, даже экологическая угроза не помешает экспорту американского СПГ в ЕС. В то время, как для поставок российского газа такие ограничения могут сохраняться.
Во-вторых, ТТП и ТТИП могут дать корпорациям, в том числе нефтегазовым, больше рычагов воздействия на принятие решений правительствами стран-участниц. Например, американская компания вполне может подать в суд, скажем, на правительство ФРГ, принудив к подписанию контракта на закупку СПГ.
Таким образом, ТТИП может использоваться для снижения зависимости ЕС от российского газа, однако маловероятно, что США и другие экспортеры СПГ смогут полностью заменить Россию на газовом рынке ЕС.
ТТИП как экономическая база для геополитического противостояния
В последнее время НАТО существенно усиливает свои позиции в Восточной Европе. По мнению некоторых западных экспертов, ТТИП может стать экономической базой для Североатлантического блока.
Например, Лео Мишель утверждает, что благодаря ТТИП страны ЕС смогут выделять больше средств на оборону. По подсчетам эксперта, ТТИП позволит увеличить ежегодные оборонные расходы Евросоюза на 2-2,5 миллиарда долларов для ЕС в целом.
Даниэль Фиотт, аналитик Европейского института изучения безопасности, полагает, что ТТИП даст возможность экспортировать в ЕС больше продукции двойного назначения, то есть товаров, которые могут применяться как в гражданских, так и в военных целях.
ТТИП и призрак «большой войны» в Евразии
Таким образом, ТТИП может стать экономической базой для дальнейшей эскалации напряженности между НАТО и Россией. В частности, в экспертной среде обсуждаются следующие потенциальные эффекты ТТИП:
– Дополнительные возможности для членов НАТО увеличить расходы на вооружение, которые и без того возросли.
– Снижение зависимости от поставок российских энергоносителей за счет налаживания экспорта американских углеводородов в ЕС, а также возможные дополнительные административные барьеры на пути поставок из стран ЕАЭС.
– Ослабление торговых связей Евросоюза с ЕАЭС и КНР.
Возникает вполне оправданный вопрос: зачем нужно такое отсечение ЕС от России и КНР?
Не являются ли оправданными опасения по поводу нового военного конфликта в Европе? Не станем ли мы свидетелями того, что, благодаря двум трансокеанским партнерствам, США смогут платить союзникам в Европе и Азии за сдерживание России и Китая?
Повод для такого рода опасений уже есть. Недавно стало известно, что страны ЕС могут направить свои войска в зону конфликта в Южно-Китайском море. Естественно, что такой шаг вызовет раздражение Пекина и негативно скажется на китайско-европейских отношениях. Ведь если войска стран ЕС появятся в столь чувствительном для китайских интересов месте, кто знает, как сложится судьба китайского «Шелкового пути»?
В связи с комплексным характером вызовов и угроз от создания ТТП и ТТИП для стран ЕАЭС представляется целесообразным выработка единой союзной стратегии, которая включала бы в себя меры реагирования на вызовы от трансокеанских блоков и способы рационального использования тех возможностей, которые появятся благодаря ТТП и ТТИП.
Однако единого мнения относительно этих торговых блоков в ЕАЭС пока не наблюдается: если российское руководство неоднократно указывало на угрозы от создания такого рода торговых блоков, то, к примеру, в проекте «Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы» белорусского МИД не упоминаются ни ТТП, ни ТТИП.
 Что значат для Евразийского союза Трамп и Клинтон?
Что значат для Евразийского союза Трамп и Клинтон?
05.07.2016
05.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Что значат для Евразийского союза Трамп и Клинтон?
Что значат для Евразийского союза Трамп и Клинтон?
05.07.2016
05.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Результаты ноябрьских президентских выборов в США повлияют на динамику развития крупных интеграционных проектов в приоритетных для американцев регионах. И хотя в списке приоритетов американской внешней политики евразийское пространство на сегодняшний день стоит не на первом месте, инициативы по углублению интеграционных процессов рассматриваются в Вашингтоне как очередной вызов глобальному лидерству США. Следовательно, для американцев этот вопрос выходит далеко за рамки «просто работы» по регионам согласно их приоритетности. Хотя на уровне публичной риторики об этом «нюансе» упоминают не часто.
Основные темы для борьбы и сотрудничества
Прогнозирование вариантов стратегий в отношении Евразийского союза вероятных кандидатов от демократов и республиканцев – Хилари Клинтон и Дональда Трампа соответственно – вряд ли возможно без понимания характера и тональности запросов политико-экспертного истеблишмента Вашингтона в отношении будущего президента США в целом и его политики в отношении России в частности.
Природа этих запросов базируется на распространенном в США представлении, что вплоть до середины 2014 г. России – за счет бюджетных поступлений от высоких цен на энергоносители – удалось нарастить собственную мощь и конвертировать ее в военную силу, которой Москва в последние годы стала эффективно пользоваться в региональных конфликтах. По этой логике, следующий американский президент должен быть способен работать на достижение жизненно важных национальных интересов страны в условиях, когда российское правительство будет по-прежнему привержено «оспариванию основ» существующего миропорядка.
Несмотря на то, что российская и американская внешние политики пересекаются по многим глобальным вопросам, по мнению западных экспертов, четырьмя ключевыми проблемами двусторонних отношений – по крайней мере, в первый год президентства нового главы Белого Дома – будут «четыре корзины»: (1) Иран (и его ядерная программа), (2) Украина, (3) Сирия, а также (4) вопросы ядерного разоружения, нераспространения и противоракетной обороны.
По каждому из четырех вопросов ориентация Вашингтона на сотрудничество и конфронтацию будет находиться в разных пропорциях. Американцы желают видеть совместную работу, при необходимости – давление, Москвы и Вашингтона на Тегеран с целью соблюдения им «ядерного соглашения». Учитывая военно-политическую приверженность Москвы – как ее видят в Вашингтоне – Башару Асаду, любая конструктивная американская инициатива по Сирии, претендующая на долгосрочность, также должна включать Россию – правда не совсем ясно каким образом и в каком качестве, учитывая последовательную поддержку Клинтон программ военной помощи и подготовки бойцов сирийской оппозиции. Еще сложнее по Украине и вопросам вооружений – степень чувствительности этих проблем для российской безопасности гораздо выше, и американцы исходят из того, что Москва будет вести себя здесь особенно неуступчиво и даже напористо.
Клинтон против «возрожденного СССР»
Очевидная «российско-центричность» при обсуждении в США проектов евразийской интеграции исходит из понимания их природы как попыток Москвы снова восстановить свое могущество через «возрождение Советского Союза». Одни – их, скорее, меньшинство – опасаются этого в буквальном смысле: воссоздание обновленной федерации в рамках тех же территориальных границ. Другие – метафорически: говорят, прежде всего, о политическом контроле Кремля над элитами включенных или стремящихся войти в Евразийский союз постсоветских республик. Клинтон – сторонник именно такой оценки. В свою бытность госсекретарем США она не раз говорила о том, что стремление Москвы продвигать идею евразийского проекта – это «попытка ре-советизации региона»:
«Мы знаем, в чем состоит конечная цель [евразийского проекта] и мы пытаемся выработать эффективные способы замедления его реализации или его полной остановки», - заявляла она еще в декабре 2012 г.
Учитывая общий критический настрой в отношении России, высокий уровень недоверия президенту Путину и весьма вероятную ориентацию на проведение более идеологизированной внешней политики, президентство Клинтон с большой долей вероятности будет ознаменовано конкретными мероприятиями по саботажу евразийских проектов, особенно тех, что будут инициированы Москвой.
Даже в самих США мало кто верит, что президент-Клинтон в 2017 г захочет дать идее «перезагрузки» еще один шанс. Апогей российско-американской конфронтации – конфликт на Украине – случился спустя год после её ухода с поста госсекретаря США. Однако критика со стороны кандидата-Клинтон по вопросам якобы недостаточности помощи Белого дома украинскому руководству (в том числе военной) дает основания полагать, что этот вопрос будет важен в повестке ее администрации не только ради украинского среза американской политики, но и дальнейшей девальвации самой идеи «евразийского союза» для других бывших советских республик.
Поддержка Клинтон наращивания американского военного присутствия в Европе с целью сдерживания «нео-имперских амбиций» России стала общим местом. Однако не менее важным элементом «доктрины Клинтон» в отношении постсоветского пространства будет и необходимость укрепления роли гражданского общества и групп, ориентированных на «продвижение демократии» в странах Евразийского союза. Она также неоднократно сетовала, что некоторые правительства из числа постсоветских республик все более агрессивно «подавляют инакомыслие», в то время как Соединенные Штаты стали все меньше вкладываться – финансово и политически – в поддержку правозащитных групп и организаций гражданского общества в регионе.
В Вашингтоне даже шутят, что Клинтон довела почерпнутую Рейганом из русского фольклора максиму («Доверяй, но проверяй») до нового абсолюта – «Не доверяй и перепроверяй». Скорее всего, подобное видение и будет определять политику ее администрации, в том числе на постсоветском пространстве.
«Непредсказуемый Дональд»
На этом фоне Дональд Трамп менее предсказуем и вызывает настороженность по другим причинам. В американском внешнеполитическом истеблишменте нет уверенности в том, что Трампу удастся убедить сомневающиеся европейские правительства в необходимости продления санкций против России. Его видение НАТО и вовсе многих пугает: потенциальные «сбережения расходов» в результате от отказа от союзнических обязательств политик – если верить его прокламациям – ставит выше потенциальных преимуществ от лидерства США в альянсе.
Более сдержанная позиция Трампа, нежели Клинтон, по Украине исходит из того, что Соединенным Штатам необходимо меньше участвовать в тех проблемах, где интересы страны не затрагиваются напрямую: «Это европейская проблема, пусть Германия с этим разбирается».
Аналогичным образом, развитие евразийской интеграции вряд ли рассматривается кандидатом-Трампом в списке первостепенных вызовов Америке.
У многих в Вашингтоне это создает иллюзию того, что «кандидат Кремля», как нередко называют Трампа его ярые противники в обеих партиях, отторгнет от США ключевых союзников, разочарует партнеров и в целом повернет американскую внешнюю политику таким образом, что позволит Москве усилить собственное влияние в Европе, не говоря уже о постсоветском пространстве.
В России же, напротив, подобные заявления Трампа питают заблуждение о том, что это человек, с которым договариваться не то что можно, но и проще, чем с Клинтон.
На самом же деле президенту-Трампу – задумай он реализовать хотя бы малую часть из того, о чем говорит – пришлось бы столкнуться с мощной двухпартийной оппозицией в Конгрессе и противодействием со стороны исполнительных структур. Даже одно это серьезно бы ослабило возможности Трампа изменить стратегический курс США, не говоря о системности и глубине расхождений между Россией и США, которые, по всей видимости, кандидату-Трампу пока не очевидны.
В свою очередь, во многом поверхностное понимание сути двусторонних проблем толкает Трампа на необходимость сближения «лично с Путиным» как гарантию улучшения отношений. В случае если добиться быстрого прорыва ему не удастся – к чему существуют все предпосылки – не исключено, что Трамп может также легко сменить примирительную риторику на ту, с которой он говорит о Китае, Мексике и мусульманских иммигрантах. При этом весь арсенал его «экстраординарности», отдельные элементы которой сейчас так забавляют многих, может быть направлен на Россию или евразийский проект с той лишь разницей, что тогда за Трампом будет стоять мощный «административно-информационный ресурс» супердержавы.
Если исходить из того, что российско-американские отношения при новом президенте США как минимум не станут лучше, а Евразийский экономический союз в новой администрации по-прежнему будет восприниматься как «креатура Москвы», существование оппозиции интеграционным проектам на евразийском пространстве не должно быть неожиданностью. Однако важно, чтобы жизнеспособность этих проектов в большей степени определялась не внешним давлением, а их собственным содержательным наполнением и внутренней динамикой.
 Альтернатива евразийской интеграции? Как пытаются вдохнуть новую жизнь в ГУАМ
Альтернатива евразийской интеграции? Как пытаются вдохнуть новую жизнь в ГУАМ
04.07.2016
04.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Альтернатива евразийской интеграции? Как пытаются вдохнуть новую жизнь в ГУАМ
Альтернатива евразийской интеграции? Как пытаются вдохнуть новую жизнь в ГУАМ
04.07.2016
04.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Создание таких структур как Таможенный Союз и ЕАЭС показывает, что интеграционный потенциал на постсоветском пространстве присутствует. Вместе с тем, образование ряда иных постсоветских группировок имело целью через интеграцию отдельных стран региона обеспечить его дальнейшее расползание, не допустить укрепления интеграционных инициатив с участием России. Пример – ГУАМ, который можно считать ключевым проектом западных архитекторов «альтернативной» постсоветской интеграции «в обход» России и ее союзников.
Под патронатом США
В истории ГУАМ отчетливо выделяется четыре этапа. Первый этап непосредственного формирования организации с 1997 по 2000 гг. Второй этап, который можно охарактеризовать как этап институционализации, охватывает период с 2001 по 2005 гг. Третий этап, который длился до 2013 г., то есть до «Евромайдана», и наконец современный период.
Первый этап начался 10 октября 1997 г., когда на саммите Совета Европы было объявлено о создании Консультативного форума ГУАМ. Уже само по себе создание группировки на саммите Совета Европы демонстрировало, что государства-участники находятся под политическим патронатом Запада. В состав организации вошли Азербайджан, Украина, Грузия и Молдова.
На бумаге проект был направлен, прежде всего, на экономическую интеграцию, но характерной чертой его было то, что на тот момент три из четырех стран участников имели на своей территории нерешенные национально-территориальные конфликты.
Более того, все эти страны – в меньшей степени Азербайджан, в большей степени Молдова и Грузия – были явно недовольны позицией России в этом вопросе, считая ее главным союзником самопровозглашенных республик. Неслучайно в Уставе ГУАМ, принятом в 2001 г., говорилось о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности государств – членов организации.
Особой задачей организации стала попытка обеспечить транспортировку энергоресурсов с Востока в Западную Европу через Каспий минуя Россию.
В этом контексте вступление в организацию Узбекистана, переживающего тогда, в 1999 г., далеко не лучший период в отношениях с Россией, стало важной вехой, что позволило сделать организацию поистине межрегиональной. Симптоматично, что вскоре после вступления в ГУАМ, Узбекистан вышел из Договора о коллективной безопасности (ДКБ).
Характерно и то, что вступление Узбекистана произошло на встрече президентов стран ГУАМ в Вашингтоне на встрече Совета Евроатлантического партнерства. Именно США взяли на себя политический патронат над организацией, которая на втором этапе своего развития подавала большие надежды. Как с точки зрения своей структуры – постепенно была создана довольно разветвленная сеть подразделений, Парламентская ассамблея, Деловой совет, Топливно-энергетический совет, так и с позиции реальной конкуренции с другими интеграционными проектами на постсоветском пространстве (прежде всего, СНГ), которые не имели тогда серьезной истории успеха.
Основные принципы и задачи функционирования ГУАМ были зафиксированы в базовом документе организации – Ялтинской Хартии от 2001 г., а Вашингтон в рамках сотрудничества США-ГУАМ, фактически оформленного в виде рамочной программы США – ГУАМ, взяли шефство над интеграционным блоком.
Организация теряет членов
С переходом на третий этап развития у ГУАМ начались серьезные проблемы. Несмотря на определенный прогресс после создания ограниченной зоны свободной торговли (ЗСТ) между странами-участницами и координацию усилий в политической сфере, участники ГУАМ столкнулись с рядом серьезных вызовов. Во-первых, все более растущий крен в сторону патроната США, а не ЕС, сам по себе нес определенные риски, принимая во внимание тот факт, что Узбекистан проводил довольно самостоятельную политику, которая нередко меняла свой вектор.
Это случилось и 2005 г., когда Ташкент вышел их организации, которая изменила свое название с ГУУАМ на ГУАМ, что было вызвано рядом причин, главными из которых после Андижанских событий было нежелание Узбекистана участвовать в организации, которая ставила одной из своих целей торжество «демократизации». Сыграли свою роль и отказ Ташкента от одностороннего ориентирования на США в Центральной Азии.
Кроме того, изначально ключевой задачей ГУАМ являлось содействие решению национально-территориальных конфликтов в благоприятном для стран ГУАМ ключе. Однако Узбекистан не имел ярко выраженных подобных конфликтов. На территории страны они потенциально есть, но в более срытых формах. Для ГУАМ же, помимо экономической повестки, именно проблематика замороженных конфликтов оставалась главной, что отчетливо проявилось в ходе 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (2006-2007 гг.), когда при помощи США страны ГУАМ добились рассмотрения этого вопроса.
После «оранжевой революции» в Украине и выхода из ГУАМ Узбекистана организация в еще более резкой форме стала оппонировать России. Наблюдался также и тренд подключения к работе ГУАМ в качестве патронов-координаторов лидеров ряда европейских стран, имевших сложные отношения с Москвой. Так, президенты Румынии и Литвы Т.Бэсэску и В. Адамкус приняли участи е в работе кишиневского форума ГУАМ, на котором была принята резолюция, 5 пункт которой гласил о необходимости добиваться полного вывода российских войск из Грузии и Молдовы согласно решениям Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г.
Тем не менее, впоследствии наметились разногласия и среди оставшихся членов ГУАМ. Так, Молдова негативно отреагировала на идею создания миротворческого батальона, а Президент Воронин стал высказываться критически и о перспективах организации в целом. Азербайджан также стремился дистанцироваться от однозначной антироссийской риторики Киева в период президентства Виктора Ющенко. Кроме того, в рамках ГУАМ так никогда и не было принято сколько-нибудь серьезной и однозначной проазербайджанской декларации, если не считать общих документов о необходимости территориальной целостности.
Влияние украинского кризиса
В итоге к началу украинского кризиса организация подошла с довольно разветвленной структурой, но с очень малым количеством реально осуществленных проектов. В основном все ограничивалось работой комиссий, посвященных различным аспектам сотрудничества, в частности, вопросам по границе, торговле, транспорту. Однако никаких крупных логистических или экономических проектов, которые обсуждались на первом этапе развития ГУАМ, реализовано не было.
Последние два года дали повод к разговорам о возможной реанимации ГУАМ в связи с событиями в Украине.
Однако ведутся они, по-прежнему, с позиции объединения стран ГУАМ вокруг антироссийской позиции и решения национально-территориальных конфликтов, отстаивания «идеалов демократии». Это при том что политические системы и характер политических режимов Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы, мягко говоря, отличаются.
Неоднократно министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял о необходимости перезапуска ГУАМ и придании организации нового импульса.
Некоторые эксперты высказывали идеи о том, то ГУАМ могут попробовать оживить с внешним участием, например, с участием Турции, которая на фоне кризиса в отношениях с Россией предпринимала активные усилия по налаживанию диалога с Киевом.
Системные дефекты искусственной интеграции
Однако пока все эти проекты остаются только проектами. И этому есть несколько системных причин, которые инициаторы возрождения ГУАМ не могут не принимать во внимание.
Во-первых, географическое положение стран ГУАМ отличается разобщенностью на две составляющие: две страны находятся в западной части постсоветского пространства, а две – на Южном Кавказе. Формирование тесных экономических связей между этими двумя частями требует строительства серьезной портовой, логистической инфраструктуры на Черном море, в Грузии и в Украине. Даже в случае начала реализации каких-то проектов она потребует много времени. Не говоря уже о том, что Крым теперь входит в состав России. Следовательно, на всех прежних проектах ГУАМ, связанных с транспортировкой через Керчь, поставлен крест.
Во-вторых, страны ГУАМ имеют не соответствующие друг другу внешнеполитические интересы. Даже у Молдовы и Украины по отношению к Москве и к урегулированию конфликтов позиции отличаются. Впрочем, эти страны хотя бы находятся в орбите влияния Запада, чего нельзя сказать об Азербайджане, который находится в постоянном диалоге с Москвой относительно урегулирования карабахского конфликта, импортирует российскую продукцию, в том числе и вооружения, имеет целый ряд проектов на межрегиональном уровне и стремится проводить в целом многовекторную политику.
В-третьих, для эффективной интеграции необходима история успеха, требуется своеобразный «драйвер» - и не только извне, но и внутри организации. Пока же говорить об интеграции в ГУАМ можно лишь с позиции «интеграции бедных». Серьезное падение ВВП в Украине; экономический кризис, обусловленный внутрполитическим проблемами и коррупцией в Молдове; нестабильность национальной валюты и социальные проблемы в Азербайджане. Все это не позволяет обеспечить быстрый интеграционный рывок, и лишний раз показывают, что
в ГУАМ нет страны-лидера интеграции. Украина, которая во многом претендовала на этот статус в период президента В.Ющенко, сегодня не может обеспечить это лидерство, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.
В-четвертых, страны Запада, если говорить о ЕС, отказавшись от реализации в прежнем виде таких проектов как «Восточное партнерство», не могут не учесть уроки прошлого. Сами они больше заняты проблемами внутри ЕС, чем украинским треком, и уж тем более перспективами ГУАМ. Скорее Запад в лице ЕС будет выстраивать более точечный диалог со странами постсоветского пространства.
История ГУАМ отчетливо показала, что попытки построить интеграцию только по принципу «против кого дружим» вряд ли может обеспечить результат, даже если этот проект и поддерживается крупными внешними игроками.
В-пятых, роль определенного драйвера в рамках ГУАМ могли бы примерить на себя региональные игроки, такие как Польша и Турция. Однако они также могут скорее претендовать на выстраивание более тесных отношений только в рамках своего региона. У Турции только на первый взгляд есть точки взаимодействия с Украиной. На деле сотрудничество двух стран скорее носит ситуативный характер. Анкара уже демонстрирует, что отношения с Россией (в силу напряженности с Западом и ряда региональных вызовов) для нее важнее.
Что же касается Польши, то она уже неоднократно устами, в том числе и политиков первого ранга, заявляла о возможности развития различных видов интеграции на пространстве «Междуморья» (между Балтийским и Черным морями). Однако в условиях противоречий с Евросоюзом и Берлином и отсутствия потенциальных возможностей вести активную дипломатию на Кавказе эти замыслы могут остаться узкорегиональными и ограниченными в плане реальных возможностей для потенциальных участников.
В-шестых, сами экономические связи между членами ГУАМ остаются довольно слабыми, может быть за исключением Молдовы и Украины, где за первое полугодие 2016 г. наблюдается рост товарооброта в основном за счет импорта из Молдовы. Однако и здесь есть проблемы. Молдавские власти в прошлом месяце ввели пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства, что украинская сторона расценивает как нарушение норм ВТО.
Что ждет ГУАМ?
В современной геополитической и экономической ситуации ГУАМ в среднесрочной перспективе скорее сохранит тенденции к своему существованию как некоего клуба государств, которые обсуждают интеграционные инициативы, добиваются отдельных косметических результатов, но не могут перейти к масштабной полноценной интеграции ввиду отсутствия объективных предпосылок для этого.
Любые серьезные решения, например, переговоры об участии в китайском проекте Экономического пояса Шелкового пути, сотрудничество с ЕС или с такими региональными игроками как Турция или Польша, скорее будут происходить на двусторонних треках. ГУАМ же будет подключаться только в качестве имиджевого сопровождения в виде «надстройки» по ограниченному кругу вопросов.
Антироссийская риторика в рамках ГУАМ будет сохраняться. Характерно, что на недавнем заседании в Швейцарии П.Климкин заявил о необходимости прекратить разговор на русском языке и использовать английский. Но Молдова и особенно Азербайджан в этом вопросе будут сохранять обособленную позицию.
Поэтому в политическом плане ГУАМ не станет союзом государств для решения национально-территориальных проблемам. На базе ГУАМ могут вырабатывать общие принципы в духе концепции приоритета территориальной целостности, но, учитывая специфику каждого отдельного конфликта на постсоветском пространстве, говорить о превращении ГУАМ в эффективную структуру, продвигающую интересы стран с национально-территориальными конфликтами, также не приходится.
Александр Гущин, к.ист.н.,
заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ
 «Дороги есть – логистики нет». Как работают трансконтинентальные коридоры Евразии
«Дороги есть – логистики нет». Как работают трансконтинентальные коридоры Евразии
03.07.2016
03.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
«Дороги есть – логистики нет». Как работают трансконтинентальные коридоры Евразии
«Дороги есть – логистики нет». Как работают трансконтинентальные коридоры Евразии
03.07.2016
03.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Одной из основных тем июньской встречи российского и китайского лидеров в Пекине стала транспортная отрасль. О ключевых маршрутах, которых касаются совместные проекты между странами ЕАЭС и Китаем, «Евразия.Эксперт» поговорил с руководителем исследовательского агентства InfraNews, экспертом по транспорту и логистике Алексеем Безбородовым.
- В ходе визита Владимира Путина в Пекин была достигнута договоренность о выделении китайскими банками денег на высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Казань, являющуюся отрезком магистрали Москва-Пекин. В чем значение данного проекта?
- Китаю он даст возможность экспортировать технологии и инвестировать в Россию. Россия получит новый способ перемещения на пространствах страны. Главное, чтобы Россия не тратила на него свои деньги. Она не должна этого делать, потому что окупаемость проекта пока предельно неочевидная. По крайней мере, в первой его части: Москва-Казань. Связано это с простой арифметикой. Для того, чтобы маршрут окупился по данному направлению, каждый житель Казани должен съездить в Москву по миллиону раз на тысячу рублей или 100 тысяч раз за 10 тысяч рублей.
- В таком случае сможет ли Россия в дальнейшем переносить финансовое бремя на Китай?
- Никаких других вариантов нет. Денег на подобные проекты нет ни в российском бюджете, ни у РЖД. Деньги придется привлекать из китайских банков или фондов, например, из фонда «Шелковый путь».
- В 2017 г. должно начаться строительство первой очереди уже автомобильной континентальной магистрали «Западная Европа – Китай»...
- Дороги всегда нужны для логистики автотранспорта и доставки грузов автотранспортом из Западной Европы в Китай и обратно. В настоящий момент доставка грузов по этому маршруту идет достаточно сложно. Дороги-то есть и сейчас. Может быть, не самые хорошие, но они есть, причем без стыков - целая сеть автомобильных дорог России, Китая и Казахстана. Но логистики как таковой нет из-за отсутствия инфраструктуры и слишком большого расстояния, поэтому автомобили никогда не преодолевают его полностью. Строительство магистрали может привести к тому, что логистика подешевеет, правда, не сильно. Поэтому
новая дорога важна даже не для того, чтобы доставить конкретный груз в Китай или из Китая, а потому, что в России в силу ее географии в принципе должно быть более развитое дорожное хозяйство. Это просто необходимый фактор развития экономики.
- Кроме того, в будущем должен появиться мост Благовещенск-Хэйхэ через Амур и отдельный мост из Китая в ЕАО...
- Они уже строятся. Проблем-то с ними не было никаких – кроме отсутствия денег. Общие мосты уже надо строить на паритетной основе – это пограничные узлы. Необходимо оборудовать нормальные пограничные переходы, ведь большую часть российско-китайской границы образует река Амур. Мостов очень мало, поэтому люди вынуждены ходить на паромах. Также
новые мосты помогут китайцам подключиться к ТОРам (территориям опережающего развития) на Дальней Востоке.
- Эксперты утверждают, что переговоры Путина с Си Цзиньпином в Пекине окончательно показали, что Экономический пояс Шелкового пути точно не пойдет мимо России. Вы согласны с этим?
- ЭШПШ мог теоретически пройти мимо России, практически - вряд ли. При сопряжении Евразийского экономического союза с Шелковым путем это физически невозможно, ему пока негде идти в обход России.
- Считается, что только 1% грузов перевозится между Азией и Европой сухопутным путем. Способно ли российско-китайское сотрудничество увеличить сухопутный грузопоток?
- Он и сейчас увеличивается. Более того, сухопутных грузов между Азией и Европой уже 2% от общего объема грузоперевозок. В первую очередь – благодаря девальвации рубля. Подешевел рубль, подешевели тарифы, поэтому и возить по суше стало выгодней. Поэтому в данном случае слабость рубля - хороший фактор. Так что, кстати, я не отношусь к людям, которые считают, что состояние российской и китайской экономик способно как-то подорвать проекты совместных магистралей и транспортных артерий. Достаточно газеты почитать:
несмотря на все трудности, у нас строятся дороги, расширяются железнодорожные сети, вводятся в строй новые заводы и так далее.
В России много чего происходит. Кризис кризисом, но это скорее финансово-политический кризис, нежели экономический. От девальвации никто не умер. Если какой-то проект не сможем потянуть быстро – потянем медленно, ничего страшного.
- В каких сегментах транспортной сферы сотрудничество России и Китая наиболее перспективно?
- Самое главное – развитие транзитных маршрутов. У нас только два таких действующих маршрута: через Дальний Восток по Транссибу на Европу и из Западного Китая через Россию и Казахстан на Европу.
 Украинский эксперт: «Россия и ЕС хотят разрешения конфликта на Донбассе»
Украинский эксперт: «Россия и ЕС хотят разрешения конфликта на Донбассе»
01.07.2016
01.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Украинский эксперт: «Россия и ЕС хотят разрешения конфликта на Донбассе»
Украинский эксперт: «Россия и ЕС хотят разрешения конфликта на Донбассе»
01.07.2016
01.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью «Евразия.Эксперт» о том, сорвутся ли Минские соглашения, устоит ли правительство в Киеве, возможно ли примирение между Украиной и Россией и как Беларусь стала центром притяжения для украинских элит.
Минские соглашения - «миссия» выполнима?
- Как обстоит ситуация на Донбассе и насколько высока вероятность реализации Минска-2 в этом году?
Сегодня ситуация на Донбассе находится в фазе «теплого» конфликта - он уже не настолько острый, как год назад, но еще не заморожен. Эта ситуация является зеркалом тех политических переговоров, которые идут вокруг реализации вторых Минских соглашений.
Несмотря на все политическое давление, которое оказывается на стороны конфликта, прежде всего Евросоюзом, Украина пока далека от реализации Минских соглашений.
Кризис доверия между сторонами конфликта и участниками переговорного процесса не позволяет реализовывать тот алгоритм, который заложен во вторых Минских соглашениях. Потому что та сторона, которая начнет реализовывать Минские соглашения, не может быть уверена, что оппонент тоже выполнит взятые на себя обязательства. По этой причине ведутся переговоры в формате «США-Россия» относительно возможной пакетной реализации Минских соглашений, хотя и такая возможность выглядит сомнительной.
Изначально на невозможность реализации Минских соглашений влияет два фактора. Во-первых, конфликт на Донбассе - лишь часть глобального геополитического противостояния между Россией и США. Причем это противостояние идет не за Украину, а за влияние на Евросоюз, за возможность сформировать эффективное экономическое и политическое объединение с ЕС.
И второй фактор – это разность конечных целей стран-участниц конфликта в этом противостоянии. США рассматривают этот конфликт как элемент дестабилизации России, связывания ее по рукам и ногам. Вбивается клин между Россией и Европой, не позволяющий им создавать какие-либо экономические и политические объединения.
Европейский союз больше всего хочет мира, любого мира – политического или замороженного конфликта. Ведь конфликт на его восточных рубежах чреват не только осложнениями в плане поставок энергоносителей, но и огромными миграционными, военными и другими рисками для всего западноевропейского пространства. Россия рассматривает Донбасс как элемент общей дестабилизации Украины, как элемент формирования иной Украины – федеративной, нейтральной, которая не представляет собой опасность для России.
Именно поэтому этот конфликт может быть разрешен или путем достижения геополитического соглашения между Россией и США, чего бы очень хотели в России, или путем достижения внутриполитических договоренностей в самой Украине между представителями разного уровня элит, что тоже пока выглядит достаточно сомнительным.
Если говорить о военной стороне конфликта на Донбассе, думаю, что он абсолютно будет привязан к политическому диалогу. Если политический диалог зайдет в тупик, безусловно, начнут работать пушки. Но даже при достижении политических договоренностей мы еще длительное время будем наблюдать попытки срыва мирных переговоров, акты индивидуального террора, индивидуального насилия, противостояние отдельных группировок. Слишком много нанесено вреда, обид и пролито крови, чтобы конфликт был остановлен в сжатые сроки.
- В последнее время много обсуждается идея ввода на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ. Целесообразно ли это? Реально ли достичь консенсус по этому поводу между всеми участниками конфликта? И возможно ли в обозримом будущем провести выборы на Донбассе по законам Украины?
Что касается миссии ОБСЕ, то я исхожу из того обстоятельства, что лучше ОБСЕ, чем никто. Мы видим, что сегодня стороны смогли договориться только о невооруженной, наблюдательной миссии ОБСЕ. Безусловно, эта миссия ОБСЕ не имеет реальной силы. Она не может развести стороны конфликта и верифицировать выполнение каких-либо договоренностей. Но в то же время, функционирование этой миссии позволяет постепенно проводить деэскалацию конфликта, избегать полномасштабных наступательных действий сторон..
При этом, вооружение миссии ОБСЕ или расширение количества офицеров и наблюдателей кардинальным образом на этот конфликт не повлияет, потому что здесь тоже есть разные подходы. Украина и США выступают за введение миротворцев, которые просто отделят Донецк и Луганск от состава Украины и таким образом уберегут страну от влияния донбасского фактора на украинскую политику.
Россия и, в какой-то мере Европейский союз, хотят разрешения этого конфликта политическими инструментами и интеграции нынешнего Донбасса в состав Украины, что изменит облик украинской политики.
Поэтому, только с помощью ОБСЕ уладить конфликт невозможно. Что касается местных выборов на Донбассе, то они должны были быть проведены еще в 2015 г. в соответствии с Минскими соглашениями. Полагаю, что местные выборы в этом году в Донецке и Луганске пройдут. Более важный вопрос – какие это будут выборы? Это будут украинские выборы, по украинскому законодательству, признанные международными организациями выборы? Или это будут выборы, которые самостоятельно проведут непризнанные республики?
Наблюдая за кризисом власти и экономическим кризисом, который сегодня происходит в Украине, наблюдая за достаточно непростой ситуацией в Л/ДНР и России, думаю, что есть высокая вероятность того, что на этих территориях пройдут легальные выборы под эгидой ОБСЕ. Я оцениваю эту вероятность в 50%.
Переходное правительство и социальные протесты
- Как Вы оцениваете работу нового украинского правительства и какие можете дать прогнозы по поводу его дальнейшей деятельности?
Новое правительство Украины стояло перед очень сложным выбором. После своего назначения новый премьер-министр Владимир Гройсман оказался на перекрестке: или слушаться МВФ и проводить ту же политику, что проводило старое правительство Арсения Яценюка, или проводить более социально популярную политику, как Юлия Тимошенко в 2007 г., вступая в конфликты с международными донорами и с командой президента.
Мне кажется, что сейчас на этом перекрестке правительство Гройсмана свернуло в сторону Яценюка и фактически на наших глазах становится его третьим правительством. Оно занимается повышением тарифов, игнорированием необходимости повышения социальных стандартов, реализацией монетаристской политики МВФ.
Правительство Гройсмана, очевидно, не станет прорывным, не станет правительством реформ. Оно – средний вариант между правительством Яценюка и олигархическим консенсусом, который сегодня доминирует в политике Украины. Это переходное правительство.
Переходное между чем и чем – вот это большой вопрос. Каким будет следующее правительство – это как раз самое интересное в украинской политике.
- Как вы оцените деятельность парламента – как большинства, так и оппозиции? Какова вероятность нового политического кризиса и досрочных выборов в Верховную Раду?
Сегодня в украинском парламенте отсутствует и большинство, и оппозиция. Украинский парламент – это набор неидеологических политических партий лидерского типа, которые принимают ситуативные решения исходя из собственных интересов.
На сегодняшний день формальную коалицию составляют Блок Петра Порошенко и Народный фронт, но даже между ними существуют серьезные конфликты. Например, несколькими неделями ранее имеющиеся разногласия не позволяли им принять новый состав Центризбиркома и закон о спецконфискациях.
Украинский парламент – это большой рынок, где у коалиции зачастую нет голосов для голосования, а у оппозиции нет стратегии и желания быть оппозицией. Следовательно, каждый раз, под каждое решение, формируется набор голосов. Конечно, такой парламент очень удобен президенту, очень удобен правительству, которое контролирует значительную часть экономического ресурса, что позволяет ему достигать договоренностей внутри парламента.
Но, вместе с тем, такой парламент крайне неэффективен в глазах украинцев. Мы видим, что общий уровень поддержки парламента в Украине ниже 10% и в случае масштабного социального кризиса, который может настать осенью-зимой этого года, когда тарифы вырастут в девятый раз за два последних года, такой парламент выступит слабым звеном в системе власти.
Именно требование о досрочных парламентских выборах может стать ключевым для социально-экономических протестов осени-зимы этого года. Нынешний парламент при текущем уровне поддержки и внутренней конфликтности обречен на досрочные выборы, но они пройдут не ранее весны-лета 2017 г.
- Какова обстановка в лагере противников Порошенко – как парламентских, так и внепарламентских сил? Каковы их ближайшие планы на будущее? Рассматривается ли вариант отставки Владимира Гройсмана?
Если говорить о парламентских противниках Порошенко, то к ним относятся, прежде всего, Юлия Тимошенко, Андрей Садовой и Радикальная партия Ляшко. Они крайне негативно относятся к фигуре самого президента. Однако их протестный потенциал связан с многочисленными экономическими договоренностями и ориентацией на Запад.
На сегодня цель западных партнеров – это как раз недопущение масштабных социальных протестов в Украине и очередного политического кризиса. Поэтому руки Тимошенко, Садового и Ляшко связаны с этой западной позицией.
Второй лагерь – это Оппозиционный блок и региональные элиты, которые ненавидят, но боятся президента, с учетом того, что президент контролирует силовую вертикаль, судебную вертикаль, финансовые потоки. Этот лагерь может себя проявить в полной мере только в условиях тотального ослабления президента. Это может случиться зимой уже этого года, когда рейтинги президента просядут ниже 5-7% и, соответственно, контроль президента над политической системой критически снизится.
Непарламентская оппозиция состоит из правых радикалов, начиная с ВО «Свобода», «Укропа» и заканчивая «Правым сектором» и другими радикальными организациями. В значительной мере она разгромлена после событий 31 августа 2015 г., когда произошли массовые беспорядки у здания Верховной Рады.
Существует и несистемная, стихийная оппозиция – это 70-80% украинцев, которые недовольны ситуацией в стране, критично оценивают деятельность президента и страдают от глубочайшего социально-экономического кризиса. Этой оппозиции не хватает лидеров, не хватает финансирования, не хватает средств массовой информации. Но достаточно часто проходят отдельные протестные акции – бастуют учителя, ученые, шахтеры, представители различных организаций или территориальных общин. Пока что эти протесты малочисленны, но они могут слиться воедино зимой этого года, когда будет пик протестной активности. Этот протест самый опасный, но без поддержки хотя бы одной финансово-промышленной группы вряд ли может составить угрозу для президента.
- По имеющейся в СМИ информации, Конституционный суд Украины рассматривает вопрос об отмене закона о люстрации. Как это может отразиться на правовой политике государства и на силах, которые лоббировали этот закон?
С правовой точки зрения никак не отразится, потому что, по большому счету, закон о люстрации не действует. По разным оценкам, под его действие должны были подпадать примерно 200 тысяч украинцев. Сегодня люстрировано менее тысячи граждан, причем большинство из них добровольно согласились покинуть службу в тех или иных органах. То есть, это скорее личная позиция людей, а не столько деятельность органов власти.
В то же время, есть выводы Венецианской комиссии, которые требуют внесения изменений в этот закон, (который, по моему мнению, абсолютно антиконституционный и должен быть отменен или, как минимум, модернизирован во многих частях). У Президента присутствует и необходимость сотрудничать с Оппозиционным блоком, где достаточно много «старых» политических лиц, которые могут быть люстрированы. Эта необходимость определяется продолжающимся распадом коалиции, необходимостью реализовывать Минские соглашения и вносить изменения в Конституцию. Поэтому власти подталкивают судей Конституционного суда к принятию решений о частичной неконституционности закона о люстрации.
Евросоюз меняется, в США все по-старому
- Как Вы считаете, последователен ли Запад в своей политике в отношении Украины, ситуации на Донбассе и в отношении России? Просматриваются ли тенденции в изменении политики Запада в отношении Украины и России?
Если говорить об американо-российских отношениях, за два последних года никаких изменений не произошло. Стороны пытаются договориться, найти какие-то компромиссы, но в то же время остаются на своих позициях. США пытаются достигнуть политического и экономического коллапса в России. Россия пытается повлиять на смену политического режима в США, на выборы президента. «Война» на истощение идет и в Украине, и в Сирии, Латинской Америке, в Европе и в других частях мира.
Наиболее существенно изменилась политика Евросоюза в отношении Украины. Сегодня наблюдается неприкрытое разочарование Украиной из-за того, что за два года так и не были проведены какие-либо социально ощутимые, эффективные, проевропейские реформы.
Это переосмысление позволяет Европе играть роль моста между Россией и США, позволяет искать политические компромиссы. Такое развитие событий, с учетом активной фазы выборов в США, конечно, грозит ослаблением лоббирования интересов нынешней украинской власти на международной арене и разрешением конфликта на Донбассе за счет Украины.
- Каковы шансы Украины получить безвизовый режим с ЕС в этом году и предпринимаются ли реальные шаги в сторону сближения Евросоюза и Украины?
Шансы получить безвизовый режим в этом году незначительны, причем вопрос не состоит в том, что Украина выполняет какие-то договоренности с Европой или достигает каких-то европейских стандартов в модернизации. Ключевыми для Европы будут неформальные факторы – такие, как миграционная мощность страны. А сегодня от 25 до 50% украинцев хотят эмигрировать из страны. Вторым фактором является вопрос безопасности: в Украине продолжаются боевые действия, растет уровень преступности, перенасыщен рынок нелегального оружия и т.д.
В дальнейшем Европа рассматривает предоставление безвизового режима Украине как инструмент борьбы с Россией, в качестве механизма социального переформатирования Украины по молдавскому сценарию, когда после предоставления безвизового режима возвращение этой страны в российскую сферу влияния вряд ли возможно.
Вопрос безвизового режима это – самая большая афера XXI века в Украине. В угоду безвизовому режиму, которым политики обманывали украинцев лет 20, принесена отечественная экономика, принесен отечественный политический суверенитет. Украина, к сожалению, в том числе и под лозунгами безвизового режима, стала полем геополитического противостояния для Запада и Востока, от чего сегодня страдают все украинцы.
Беларусь - центр притяжения украинских элит?
- Какими Вы видите будущее отношений Украины с Россией – не только в контексте донбасского кризиса, но и крымского? Могут ли отношения стран вернуться на тот уровень, на котором они были до майдана?
В ближайшей перспективе, без какого-либо глобального кризиса я не вижу перспектив. Поражение одной из сторон в геополитическом конфликте может потенциально восстановить эти отношения – политические и экономические, которые были раньше.
В отсутствие какого-то глобального потрясения Украина в отношениях с Россией продолжит идти по прибалтийскому и грузинскому сценарию. Со временем экономические отношения будут восстанавливаться, но в меньшем объеме, а политическое сближение будет блокировано. Это прогноз на ближайшие 5-10 лет.
- Как могут развиваться отношения Украины и ЕАЭС? Что вообще можно сказать о развитии восточного вектора Украины?
Пока что Евразийский экономический союз не смог сформулировать достаточно привлекательную экономическую модель, поэтому Украина будет развивать сотрудничество с отдельными странами Евразийского экономического союза – прежде всего с Беларусью и Казахстаном. Ожидать какого-то политического или формального экономического сотрудничества со всей структурой сегодня не приходится, потому что эта структура демонизирована в глазах украинцев.
Если ЕАЭС сможет стать привлекательным центром притяжения по примеру Европейского союза, это может быть аргументом для части украинских политиков – но не в ближайшее время.
- Каковы перспективы взаимодействия Украины и Беларуси?
Главным выгодополучателем украинского кризиса, как ни парадоксально, оказалась Беларусь.
Она воспользовалась украинским кризисом и сегодня стала транзитным государством между Европой и Россией, нарастила объемы торговли и в Россию, и в Украину, в значительной мере получила технологическую подпитку за счет украинских кадров. Беларусь также вышла из политической изоляции перед западным миром, став площадкой для минского политического диалога. Здесь Александр Лукашенко показал себя очень мудрым политиком.
Думаю, что отношения с Беларусью, безусловно, будут развиваться – и в экономическом, и в политическом плане. Беларусь может стать более эффективным переговорщиком в рамках разрешения украинского политического кризиса. Она в этом очень заинтересована, поскольку имеет доступ на украинские рынки.
Беларусь давно уже созрела, что бы стать страной Нормандской четверки в случае расширения этого формата за счет привлечения других стран – Казахстана, Польши, США, возможно, Турции. Беларуси нужно быть в Нормандской четверке, чтобы гарантировать выполнение достигаемых договоренностей.
Сегодня Беларусь стала центром притяжения для части украинских политических элит, хотя она еще этого не осознает. Но сам позитивный образ Беларуси весьма распространен в Украине; нельзя исключать возможность формирования внутри Украины успешных пробелорусских политических проектов. Хотелось бы, конечно, чтобы это была дорога с двухсторонним движением, и чтобы Украина так же пользовалась этим взаимным открытием и укрепляла свои позиции в Беларуси.
Беседовал Валентин Гайдай (Украина, Киев)
 Индия обходит Китай в приватизации российских нефтегазовых активов
Индия обходит Китай в приватизации российских нефтегазовых активов
01.07.2016
01.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Индия обходит Китай в приватизации российских нефтегазовых активов
Индия обходит Китай в приватизации российских нефтегазовых активов
01.07.2016
01.07.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
По мере приватизации российских нефтегазовых активов меняются приоритетные иностранные партнеры. Если ранее в качестве фаворитов рассматривались американские и европейские корпорации, то после начала «санкционной войны» на первый план выдвинулся Китай. Теперь же инициатива переходит к индийским компаниям, так как их условия сотрудничества оказались выгоднее, чем у китайских представителей. Однако объектов для продажи еще достаточно: доли в газовых СПГ-проектах, восточносибирских нефтяных месторождениях и 19,5% «Роснефти». Поэтому борьба продолжается.
Охлаждение отношений России и Запада в последние годы привело к существенным изменениям условий работы иностранных компаний. Появились как риски, так и возможности. Перечень появившихся ограничений понятен: прямой запрет со стороны США и ЕС кредитовать и поставлять оборудование определенным российским компаниям. Кроме того,
есть и негласные санкции, ограничивающие зарубежные компании в их деятельности в России. Например, американские власти рекомендовали своим бизнесменам не приезжать на Петербургский международный экономический форум.
В целом создаются условия при которых участие западных компаний в российских проектах приводит к ощутимым имиджевым издержкам. По большому счету, западные компании в России пока ничего не потеряли. Возьмем нефтегазовый сектор, полноценно попавший под санкции. Отечественные компании, прежде всего «Роснефть», создавала совместные предприятия (СП) с американскими (ExxonMobil) и европейскими (Eni, Statoil, Total и др.) корпорациями для разработки шельфовых месторождений и добычи трудноизвлекаемой нефти на суше. Все эти проекты заморожены. Но, во-первых, все договоренности о создании СП остаются в силе. Во-вторых, указанные проекты высокозатратны. В условиях обвалившихся цен на нефть они могли быть заморожены и без каких-либо санкций.
Главный риск для западных компаний – впереди. Теперь они могут быть ограничены в своих действиях при приватизации российских госактивов. С одной стороны, западные политические круги будут давить на своих «мейджоров», принуждая примкнуть к экономической блокаде России. С другой стороны, Москва сама объявила разворот на Восток и уже, как минимум, одинаково благосклонно смотрит на приход инвестиций как с Запада, так и из Азии. Таким образом, «санкционная война» привела к расширению потенциальных участников приватизации российских активов и иностранных инвесторов в целом.
Интересно, что разворот на Восток также постепенно трансформировался. Изначально под этой стратегией понималась простая замена Европы и США на Китай в тех направления сотрудничества, где были введены антироссийские санкции. Прежде всего речь шла о рынке кредитования. На практике китайские банки не предоставили российским структурам дешевого финансирования, опасаясь испортить отношения с США. Они либо предлагают завышенные ставки, либо ставят дополнительные условия.
Красноречивым примером трудностей при сотрудничестве с китайскими структурами стал проект «Ямал СПГ». Российский НОВАТЭК, владеющий 51% в проекте строящегося завода по сжижению газа (СПГ) на Ямальском полуострове, продал в январе 2014 г. 20% акций в «Ямал СПГ» китайской CNPC по двум причинам. Во-первых, госкомпании из КНР входят в добычные нефтегазовые проекты для того, чтобы гарантировать поставки сырья на территорию Китая. Следовательно, для НОВАТЭКа появление такого партнера обеспечивало бы рынок сбыта.
Во-вторых, российские собственники «Ямала СПГ» ждали, что с CNPC, купив долю в проекте, организует его финансирование со стороны китайских банков. Но после закрытия соглашения деньги в проект, суммарная стоимость которого оценивается в $27 млрд., так и не пришли. В марте 2016 г. НОВАТЭК продал еще 9,9% в Ямале СПГ» китайскому Фонду Шелкового Пути. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки.
В апреле «Экспортно-импортный банк Китая» и «Банк развития Китая» пообещали выделить кредит на €9,3 млрд и 9,8 млрд юаней (€1,3 млрд). Первый транш в сумме €450 млн. «Ямалу СПГ» пришел от Китая только после визита Владимира Путина в Пекин в июне текущего года. Но вместе с кредитами СПГ проект НОВАТЭКа получил и обременение в виде обязательства заказывать некоторое оборудование на китайских предприятиях.
Несговорчивость Китая в вопросе кредитования приводит к тому, что российские власти и бизнес нашли альтернативных партнеров в Азии. Заменой, теперь уже Китаю, стала Индия.
Дели на удивление быстро смог договориться с «Роснефтью» о покупке 49,9% «Ванкорнефти» и 29,9% «Таас-Юрях нефтегазодобычи». Хотя ранее эти активы прочили Китаю. Именно на просьбу главы «Роснефти» Игоря Сечина одобрить вхождение китайских компаний в Ванкорский проект Владимир Путин ответил знаменитой фразой: «Мы в целом очень аккуратно подходим к допуску наших иностранных партнеров, но, конечно, для наших китайских друзей ограничений нет». После вхождения индийских компаний в «Ванкорнефть» нефть с этого проекта не поменяет направление своего экспорта. В 2015 г. на Ванкорском месторождении было добыто 22 млн. т. Весь объем поступил в нефтепровод ВСТО, а по нему ушел в КНР по контрактам «Роснефти» и CNPC.
Китаю стоит обеспокоиться активностью Индии, если он хочет поучаствовать в покупке российских активов. Например, в мае 2016 г. председатель CNPC Ван Илинь заявил, что в случае покупки приватизируемых 19,5% акций «Роснефти», его компания хотела бы получить право управления компанией. Хотя речь и идет лишь о частичном влиянии деятельность, эти требования выглядят явно завышенными. Максимум на что могут рассчитывать китайские партнеры – представительство в совете директоров. У Индии, также претендующей на покупку акций «Роснефти», претензий на руководство компанией нет. Поэтому для России Дели становится более удобным партнером при продаже госактивов.
Кроме того, Индия заявила о своем интересе к СПГ проектам: второму заводу СПГ на Ямале, который планирует построить НОВАТЭК – «Арктик СПГ», «Дальневосточному СПГ», который намерены построить «Роснефть» и ExxonMobil на Дальнем Востоке России.
Конечно, Китай не отказывается от борьбы за российские энергоактивы. Во время июньского визита Владимира Путина в Китай «Роснефть» достигла предварительных договоренностей о продаже государственной ChemChina 40% в «Восточной нефтехимической компании» и 20% в Верхнечонском месторождении компании Beijing Enterprises. Однако, как и в случае с «Ванкорнефтью», предварительные договоренности могут сорваться. Привлекательные активы могут уплыть в руки конкурентов, даже если для тебя «ограничений нет».
Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ
 Как белорусская оппозиция борется за активистов
Как белорусская оппозиция борется за активистов
30.06.2016
30.06.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Как белорусская оппозиция борется за активистов
Как белорусская оппозиция борется за активистов
30.06.2016
30.06.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
«Евразия.Эксперт» продолжает мониторинг парламентской кампании в Республике Беларусь. Тема парламентских выборов, которые состоятся в сентябре, была затронута на прошедшем 22-23 июня Всебелорусском народном собрании. Президент Александр Лукашенко, в частности, отметил: «Если кто-то питает надежды поколебать нашу стабильность в период такой важной политической кампании, как парламентские выборы, то эти попытки надо оставить в стороне». Уже сегодня есть вероятность, что до финиша предвыборной гонки дойдут далеко не все кандидаты.
Кризис в рядах Статкевича
«Белорусский национальный конгресс» Николая Статкевича изначально создавался рядом полуфиктивных организаций-аутсайдеров: движением «Разам», движением «За государственность и независимость» и незарегистрированной партией самого Статкевича – БСДП (НГ).
По итогам неудачно проведенного Белорусского национального конгресса (БНК) среди союзников Статкевича наметился раскол. В то время как Владимир Некляев поддержал БНК и поехал в Брюссель от имени движения «За государственность и независимость», советом движения было принято решение об отказе от участия в проекте Статкевича, поскольку он якобы перехватил инициативу некляевцев. Как утверждал член совета А. Мех: «На этом конгрессе не решили ни одного вопроса, не дали ни одного ответа… Они просто создали какие-то организационные структуры и сразу отправились в Брюссель. После каждой поездки они должны отчитываться, чем они там занимались».
В знак протеста против действий Некляева из движения вышли координатор Бурко и заместитель председателя Виноградов – опытный организатор, некогда руководивший молодежным крылом кампании «Говори правду». Это наносит удар не только по единству БНК и авторитету Статкевича, но и банально оставляет последнего без рабочих рук.
Конфликт внутри структуры Некляева тем более показателен, поскольку именно этот политик наиболее последовательно поддерживал Статкевича с момента его освобождения из заключения. В итоге к старту парламентской кампании широко разрекламированный БНК Статкевича подошел фактически без кандидатов и активистов.
Борьба за имидж «объединителей»
На минувшей неделе было анонсировано очередное (уже третье в ходе предвыборной кампании!) «широкое» объединение оппозиции в традиционном, то есть «старом» формате Конгресса демократических сил (КДС), который поддержали, в первую очередь, структуры правой коалиции (ОГП, оргкомитет БХД, движение «За свободу»), организации-сателлиты БНК Статкевича, а также Белорусская партия левых «Справедливый мир».
Представляется, что такое фиктивное объединение – имиджевый ход, предпринятый в первую очередь для Запада. Избиратель же разницы практически не заметит: несмотря на вновь анонсированное объединение, так и не была достигнута договоренность о едином оппозиционном списке кандидатов, на чем категорично настаивал Статкевич. Фактически, это объединение в модели «правой» коалиции, навязанное Статкевичу. В такой коалиции Н. Статкевич не будет иметь веса («правые», к примеру, заявили о 95 кандидатах, а Статкевич пока не имеет ни одного), а его самого, скорее, будут использовать как свадебного генерала для демонстрации видимости единства электорату и западным спонсорам.
Оппозиционная пресса и даже нейтральные ресурсы (например, портал tut.by), начали активно рекламировать возможное объединение оппозиции, что вызывает определенные вопросы к их информационной политике. Между тем, внутри новой коалиционной структуры обнаружились противоречия, которые не получили освещения в прессе.
Во-первых, Статкевич не согласен с тем, что решения КДС будут приниматься с учетом мнений всех участников на паритетной основе и требует для себя преференций. Во-вторых, Статкевича не устраивает, что его наспех организованный БНК может войти в оргкомитет «Конгресса демократических сил» только на правах отдельного субъекта оппозиции, а не руководящей структуры. Статкевич всячески пытается поддерживать агрессивный имидж лидера и объединителя. Однако право на вхождение в оргкомитет нового «Конгресса» имеют оппозиционные партии и общественные организации, выдвинувшие на выборах 2016 г. не менее 8 кандидатов. У «объединителя»-Статкевича пока нет ни одного реального кандидата, не говоря уже о восьми.
Подобный расклад толкает Статкевича к бойкоту выборов как к единственно возможной стратегии. Скорее всего, анонсированные им акции протеста будут проходить по схеме срыва предвыборных мероприятий и агитации за бойкот (что прямо запрещено избирательным законодательством).
Напомним, что с момента освобождения (август 2015 г.) Статкевич выступил организатором ряда несанкционированных акций протеста в столице. Несмотря на сравнительно мягкую реакцию правоохранительных органов, в акциях принимало участие всего 100-300 человек. Фактически, в формате уличной акции прошел и БНК Статкевича, собравший порядка 50-80 учредителей. Создается впечатление, что на иные действия, а тем более на участие в избирательной кампании, Статкевич попросту не имеет кадрового ресурса, а любые его инициативы закономерно превращаются в однотипные уличные акции.
«Говори правду» не договорились
24 мая 2016 г. состоялась последняя крупная координационная поездка оппозиции в Брюссель, на которой с белорусской стороны присутствовали сопредседатель оргкомитета БХД Виталий Рымашевский, замглавы движения «За свободу» Юрий Губаревич, председатель «Справедливого мира» Сергей Калякин, председатель ОГП Анатолий Лебедько, председатель партии БНФ Алексей Янукевич, политики Владимир Некляев и Николай Статкевич, а также Татьяна Короткевич от кампании «Говори правду». Примечательно, что лидер «Европейской Беларуси» Андрей Санников, который в настоящий момент находится в Лондоне, на мероприятии не был – он последовательно игнорирует оппозиционных коллег.
Встреча с представителями Европарламента длилась всего один час. В процессе непродолжительного обсуждения Т.Короткевич высказалась: «Нам нужно выбирать не искусственное объединение, а реальную координацию». Очевидно, сказано это было в противовес Статкевичу и его нерепрезентативному БНК. В свою очередь, иные оппозиционные структуры и политики, в том числе и Статкевич, продолжают обструкцию и Т. Короткевич и руководителя ее штаба А. Дмитриева, обвиняя их в сотрудничестве с властью.
Пока аналитики полемизируют по поводу перспектив «Говори правду» Короткевич в парламенте, отметим, что, по нашему мнению, ГП не являются некими «теневыми ставленниками» власти, как это хотят подать радикалы и оппозиционная пресса. Скорее, организация выступает партнером во внешнеполитической игре белорусского МИДа.
Этот факт, однако, никак не влияет на реальные силы кампании и ее организационные ресурсы. Так, ГП заявили о том, что планируют закрыть только 30 округов из 110, что говорит о низкой популярности кампании и отсутствии кадров (для сравнения: партия БНФ выдвигает 50 человек, КПБ – 60, «правая» коалиция – 95). Скорее всего, кампания сумеет охватить столичные округа (20) и некоторую часть в регионах. В столице, однако, достаточно велика активность левопатриотических и провластных организаций, а минским округам традиционно уделяется значительное внимание. Кроме того, уже на подготовительном этапе оппозиция продемонстрировала неспособность организовать наблюдение – заявлено о подготовке тысячи наблюдателей при минимально необходимом количестве порядка 8-12 тыс. человек (110 округов включают около 35-40 участков, на каждый из которых требуется 2-3 наблюдателя-активиста). Несмотря на это,
отдельные организации, например, ОГП Анатолия Лебедько, прямо декларируют своей задачей при наблюдении за выборами «собрать убедительные доказательства отсутствия свободных и честных выборов».
Отметим, что в плане возможного признания выборов на руку белорусским властям играет внешнеполитический фактор, связанный с недавним скандалом при подсчете голосов на президентских выборах в Австрии. Это несколько девальвирует роль таких институтов как БДИПЧ ОБСЕ, закрывающих глаза на внутренние нарушения в странах Евросоюза. В частности, как ранее отметил в интервью «Евразия.Эксперт» член правления «Европейского альянса за свободу» Нормунд Гростиньш, такое проведение выборов президента Австрии уменьшает возможности ОБСЕ и Евросоюза критиковать порядок проведения выборов, например, в Беларуси.
Список сокращений:
БНК – Белорусский национальный конгресс
БНФ – Белорусский Народный Фронт
БСДП(НГ) – Белорусская Социал-Демократическая Партия Народная Громада
БХД – Белорусская Христианская Демократия
ГП – Говори Правду
ЗГиН – За Государственность и Независимость
КДС – Конгресс Демократических Сил
КПБ – Коммунистическая Партия Беларуси
ОГП – Объединенная Гражданская Партия
Андрей Лазуткин, белорусский политолог и публицист, магистр политических наук
 Экс-главком НАТО: «Выход Британии из ЕС усилит Альянс»
Экс-главком НАТО: «Выход Британии из ЕС усилит Альянс»
30.06.2016
30.06.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Экс-главком НАТО: «Выход Британии из ЕС усилит Альянс»
Экс-главком НАТО: «Выход Британии из ЕС усилит Альянс»
30.06.2016
30.06.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Сторонникам апокалипсиса объединенной Европы после выхода Британии следует вспомнить, что государство собирается выходить из ЕС, но не из НАТО. Альянс можно уподобить скелету, который скрепляет Европу гарантиями защиты, военной инфраструктурой и единым центром командования. Поэтому стратегически единство евроатлантического сообщества не ставится под сомнение референдумом в Великобритании. Игра за определение новой будущей роли Великобритании в Европе и внешней политики этого государства только началась.
По сообщениям агентства Reuters, США сейчас настаивают на усилении роли Великобритании в НАТО, чтобы не допустить изоляции страны и, тем самым, ослабления Альянса. Приближающийся саммит НАТО в Варшаве 8-9 июля дает возможность Западу продемонстрировать единство и уверенность в своих силах, предотвратить обвал своего мирового престижа.
Экс-главком сил НАТО в Европе (2009-2013), адмирал США Джеймс Ставридис выступил в журнале Foreign Policy с программной статьей «Потеря Европы – это приобретение НАТО». Ставридис обосновывает, почему выход Британии из ЕС не ослабит, а, наоборот, усилит Альянс. Ниже приведены основные аргументы (и цитаты) из статьи экс-главкома НАТО.
1. «С момента основания НАТО обеспечивало военный баланс против усилий [России подтолкнуть центробежные тенденции в Западной Европе], и теперь акции Альянса ожидаемо подорожают в общественном мнении Европы».
2. Великобритания сможет высвободить больше военных и человеческих ресурсов, прежде задействованных в структурах и операциях ЕС, для участия в миссиях НАТО.
3. Снизится «тихая, но реальная полевая конкуренция НАТО и ЕС» (операции по борьбе с пиратством вдоль берегов Африки, операции на Балканах и в Афганистане). «Утрата британской военной мощи [в рамках союза] ожидаемо побудит ЕС больше полагаться на НАТО».
4. «[Британия] будет вынуждена искать способы продемонстрировать США ценность своего партнерства, если она надеется сохранить некое подобие "особых отношений" (special relationship), к которым привыкла и от которых зависит».
5. «США должны помочь британцам сконструировать отношения с ЕС по норвежскому образцу… здесь [США] потребуется побудить ЕС следовать аналогичной цели».
Примечание редакции: следует отметить, что отношения по норвежскому сценарию мало согласуются с волеизъявлением граждан Великобритании. Норвегия не имеет права ограничивать трудовую миграцию из стран Евросоюза и обязана отчислять средства в бюджет ЕС в обмен на получение доступа к общеевропейскому рынку. Однако эти две темы стали ключевыми в кампании за выход Великобритании из ЕС.
Газета Financial Times уже предложила новую формулу – что-то вроде: «Норвегия минус миграция». Ведь в Норвегии уровень миграции на душу населения выше, чем в Великобритании. Здесь Великобритании очень пригодилась бы поддержка США.
Редакция «Евразия.Эксперт»
 Перспективы развития единого гуманитарного пространства: взгляд из Беларуси и России – Газета «Союзное вече»
Перспективы развития единого гуманитарного пространства: взгляд из Беларуси и России – Газета «Союзное вече»
29.06.2016
29.06.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Перспективы развития единого гуманитарного пространства: взгляд из Беларуси и России – Газета «Союзное вече»
Перспективы развития единого гуманитарного пространства: взгляд из Беларуси и России – Газета «Союзное вече»
29.06.2016
29.06.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
На портале «Союзное вече» вышел репортаж посвященный заседанию российско-белорусского экспертного клуба, состоявшемся 6 июня в пресс-центре Дома прессы в Минске
Участники обсудили проблемы формирования идеологии для СГ. Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин считает, что на данный момент существуют три основных дискуссионных концепта: преемственность с советским прошлым и его восприятие, концепция «Русского мира» и евразийство. Эксперт предложил проработать эти идеи, чтобы в дальнейшем удовлетворить запрос на общие ценности и цивилизационную идентичность в рамках Союзного государства.
Кроме того, наиболее остро встал вопрос возможных внешних угроз для развития интеграции. Директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов обозначил три серьезных фактора дальнейшего развития СГ. Во-первых, украинский кризис породил яркий всплеск национализма, который потенциально способен «заразить» все постсоветское простанство и расщепить культурную идентичность. Во-вторых, кризис европейской идентичности может создать целый ряд конфликтов в «западном мире», которые будут пагубно влиять на евразийскую интеграцию. В-третьих, индустриальная революция за короткий промежуток времени может вывести ряд стран на высочайший технологиечский уровень, который сделает Россию и Беларусь не конкурентноспособными.










