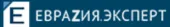Москва сделала геостратегический выбор поддерживать Минск.
«Лидер Европы» в постзападном мире: Что стоит за визитом Макрона в Кремль
Обострение ситуации вокруг расширения инфраструктуры НАТО на Восток было во многом предсказуемым, как и локализация напряженности на территории Украины. Хотя очевидно, что приведшие к этому процессы, в том числе геоэкономические, выходят далеко за границы Украины. Речь идет об острой борьбе за доминирование в Европе и попытки различных сил переконфигурировать европейское геоэкономическое пространство в своих интересах. Сегодняшняя ситуация определяется нарастающим осознанием европейскими элитами остроты сложившейся обстановки и пагубности направления ее развития. Почему Россия стала фокусом геополитических трансформаций в Европе и чего хотел добиться в ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон, в статье для «Евразия.Эксперт» проанализировал профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.
Обратим внимание, что первый всплеск напряженности с проявлением заметных признаков внешнего управления процессами дестабилизации проявился сперва в Белоруссии и только затем – на территории Украины. Речь изначально шла о более глубоком переформатировании исключительно важного пространства в Восточной Европе. Причем, пространства важного не столько экономически (даже промышленно развитая Беларусь относительно малозначима в общеевропейских масштабах; тем более игнорируема деиндустриализирующаяся Украина), сколько геополитически, как удобный плацдарм.
После неудачи с дестабилизацией и захватом власти в Белоруссии осенью 2021 г. концепт «буферной зоны» на западной границе России, пригодной для оказания системного военного давления на нее, отсечения ее от ключевых рынков, если и не перестал быть полностью актуальным, то лишился одного их наиболее значимых компонентов. Речь идет о «санитарном кордоне», дополненном разноформатным военно-силовым инструментарием (не только «гибридных войн», хотя и с опорой на эти механизмы). Формирование такого компонента оказалось просто невозможным.
Среднесрочная судьба Украины решилась в Белоруссии. Однако такой разворот сделал возможным более опасный вариант дальнейшего развития событий, миттельшпиль которого мы наблюдали в ходе последовательных визитов европейских лидеров в Москву в феврале 2022 г. Эта активность связана с попытками европейцев вернуть хоть какую-то управляемость ситуацией в важном регионе.
США и европейский кризис безопасности: гипотеза
США анонсировали «доктрину Байдена», при ближайшем рассмотрении оказавшуюся вариантом «периферийной стратегии». Речь идет об отказе от затратных и потенциально разрушительных конфликтов, оптимизации военно-политических обязательств и действий на периферии ключевых противников с минимизацией прямого вовлечения. Вариации такой стратегии осуществлялись США в 1970-е и 1980-е гг. в периоды временного внутреннего политического и экономического кризиса, когда приоритетом становилась консолидация элиты. Такой период США переживают и сегодня.
Резонно предположить, что США признали неизбежность восстановления российского контроля над большей частью Евразии. Это связано, вероятно, с пониманием крайней затратности противодействия России в современной геоэкономической ситуации.
И США, и «коллективный Запад» не имеют достаточного объема военно-политических ресурсов, чтобы «оборонять», вернее, политически контролировать большую часть Евразии. Не имеют они и финансовых ресурсов, чтобы обеспечить стабилизацию Украины, ставшей слишком экономически дезорганизованным и политически токсичным активом.
Главный вопрос для США – в каком формате и масштабах Евразия будет консолидирована и каковы будут ее отношения с сопредельными макрорегионами, прежде всего, с Китаем и Европой. И насколько эти макрорегионы будут самостоятельны в своем стратегическом поведении.
Очевидно, что США добились в Европе больших успехов в проведении подобной политики и сейчас стремятся трансформировать «операционные» достижения в способность к стратегическому управлению не только экономическим ростом как таковым, но и стратегическими векторами экономического развития стран ЕС и сопряженных с ним регионов, прежде всего, Среднего Востока и Восточного Средиземноморья.
США нужна геоэкономически несамостоятельная Европа, зависящая от них не только в сфере безопасности (Вашингтон уже выполнил эту задачу), но и по стратегическим направлениям геоэкономического развития: энергетике, финансам и инвестициям, логистике.
В этих сферах на страны Евросоюза оказывается усиливающееся давление, эффективность которого возрастает за счет внутреннего конфликта между государствами-членами ЕС и наднациональными структурами союза.
Военно-политические риски, даже медийно сконструированные, как, например, «угроза вторжения России на Украину», облегчают решение этой задачи. Хотя бы в силу удержания Вашингтоном инициативы в тех сферах, где Штаты считают возможности безопасной для себя эскалации близкими к неограниченным. Что и проявляется в подходе Вашингтона и Лондона к управлению нестабильностью на Украине и в ряде других регионов, сопредельных с Россией.
Европа: дилемма геоэкономического субъекта или объекта
Главная проблема современной Европы заключается в невозможности дальнейшего обеспечения ее системного развития при сохранении ее сегодняшней геополитической и геоэкономической конфигурации. Это невозможно ни в рамках сценария управления за счет наднациональных структур, ни даже при возвращении приоритета национальных государств, противоречия между которыми нарастают.
Поляризация в современной Европе развивается и во внешнем измерении. Происходит разделение между странами, согласными со статусом европейской периферии США (Польша, прибалтийские лимитрофы, Дания и ряд других стран), и странами, которых такой статус не устраивает (Франция, Италия, Австрия).
Промежуточное положение занимает Германия, утрачивающая по объективным причинам роль безусловного гегемона в Европе, а с ней – и перспективы консолидировать вокруг себя «староевропейский макрорегион».
Германии для получения статуса главного союзника США в Европе придется пожертвовать геоэкономической самостоятельностью, прежде всего, относительной самостоятельностью и устойчивостью энергетического сектора.
Свобода маневра Германии в последние два года сократилась кардинально и пока нет оснований полагать, что германская элита сможет консолидироваться в ближайшие два-три года. Напротив, гораздо больше указаний на то, что ФРГ смирилась с неизбежностью превращения в одну из стран периферии США, хотя и с особым статусом в экономической сфере.
«Логика Макрона»: попытка реконструкции
Эммануэль Макрон стремится максимально использовать все шансы на получение статуса лидера экономически развитой и не жестко проамериканской части Европы. Тем более, учитывая, что ситуация с энергетической безопасностью у Франции обстоит лучше, чем у большинства других стран ЕС. Кроме того, Франция обладает еще несколькими заметными конкурентными преимуществами:
● наличием собственного, хотя и не столь значительного потенциала проецирования силы, способностью осуществлять силовые операции на значительном удалении от национальной территории. Вооруженные силы Франции будут основой для формирования европейских военно-силовых структур, если эти проекты когда-либо дойдут до стадии практического обеспечения;
● сохранением собственной инвестиционно-банковской системы, до известной степени, хотя и не полностью автономной от американской. Макрон остается, несмотря на сегодняшний статус, представителем финансовой среды, безусловно, остро осознающим риски для своего выживания при продолжении США политики геоэкономического поглощения Европы;
● наличием индустрии наукоемких технологий, продвинутых сегментов промышленности, в том числе в сфере «новой энергетики» и машиностроения, которым необходимо для выживания сохранение рынков за пределами и ЕС, и в целом «западного мира», где реализуется курс на доминирование американского технологического стандарта с использованием политических средств.
Макрон пользуется ситуацией, когда в Европе одновременно сформировался запрос на восстановление геоэкономической самостоятельности, очевиден дефицит возможностей проявить самостоятельный геополитический курс, и в то же время растет реальное осознание стратегической пагубности разрыва с Россией.
Этого мало для того, чтобы обеспечить реальную независимость Франции и, тем более, ЕС от США, но достаточно, чтобы вести конструктивные переговоры с Россией. А в дальнейшем – подавать себя в качестве «лидера Европы» в решении одной из ключевых проблем для выживания Европы и иметь претензии на роль одного из «центров силы» постглобального мира.
Россия как фокус трансформаций в Европе
Опыт последнего года доказал, что никакие геополитические и геоэкономические трансформации в Европе невозможны без России, даже если они сконфигурированы против нее. Действия России по обострению дискуссии с США по вопросам общеевропейской безопасности продиктованы жизненной необходимостью сломать неблагоприятную для Москвы логику развития ситуации. Эта логика предполагает постоянное возникновение очагов нестабильности, исключающих возможность спокойного взаимодействия с ЕС.
Действия Москвы направлены на то, чтобы через обострение ситуации создать некое дополнительное пространство для маневра европейским элитам. Или, как минимум, тому их сегменту, что не видит для себя перспектив в случае превращения их стран в «прифронтовые» (от англ. «frontline states», термина НАТО, часто применяющегося к Прибалтике – прим. ред. «ЕЭ»).
В России хорошо осознают, что, хотя Москва добилась многого в снижении значимости для себя европейского направления, Европа остается важнейшим, как минимум, в экономическом плане направлением. Несмотря на беспрецедентное сближение с Москвой, Пекин пока избегает делать знаковые в политическом плане шаги в адрес России, например, признав Крым российским или указав китайским компаниям не соблюдать введенные США санкции против нашей страны или ее компаний, допустим, в финансовой области. В Пекине все еще рассчитывают на новый тур торговли с Вашингтоном, когда эти вопросы могут стать важной «разменной монетой».
Москва заинтересована в деэскалации отношений, как минимум, с европейскими странами (на нынешней стадии нормализация отношений с США выглядит нереалистично) и сохранении ряда важнейших направлений геоэкономического взаимодействия, не только по углеводородной энергетике. Как минимум, на ближайшие два-три года, пока Пекин не дозреет до более тесных геоэкономических отношений с Россией (а перспективы этого, конечно, есть, что доказывают российско-китайские договоренности по закупкам КНР нефти), а Россия не достроит инфраструктуру присутствия на юго-восточном направлении (в частности, в пространстве глобального коридора «Север-Юг») и «зону безопасности» в Центральной Азии. И Франция в данном случае – вполне комфортный партнер, поскольку, обладая амбициями, имеет относительно скромные практические возможности их реализации.
Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ ВШЭ
Сейчас читают