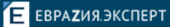Нурлан Аселкан
НАУКА
07 декабря
Почему в Москве вспомнили про советские «шаттлы»?
НАУКА
16 ноября
Когда с «Назарбаевского старта» полетит первая ракета?
НАУКА
09 августа
Стоит ли вкладываться в дорогостоящие космические проекты сегодня?
ОРУЖИЕ
05 декабря
Мир стоит на пороге технологической революции в военном деле.