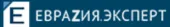Сергей Третьяк
СМЫСЛЫ
21 марта
Как следует трактовать такое историческое явление, как Белорусская Национальная Республика, и кто пытается извлечь из него выгоду.
СМЫСЛЫ
08 ноября
Белорусский историк Сергей Третьяк: "Отказ от советского прошлого сделает нелегитимным сам факт существования Республики Беларусь".
СМЫСЛЫ
06 ноября
Завотделом Института истории НАН Беларуси к.и.н. Сергей Третьяк - о том, как Октябрьская революция прокатилась по белорусским землям.
СМЫСЛЫ
09 мая
Память о войне в Беларуси оттеснила память об Октябрьской революции и Национальном воссоединении 1939 г.
Сейчас читают

Власти Минска рассказали о ключевых проектах строительной отрасли города
08.08.2025 10:09:09
Новости

Транзит российских нефтепродуктов в Таджикистан через Казахстан вырос на 33% – Казахстанские железные дороги
08.08.2025 12:10:59
Новости