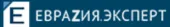Тристан Кендердайн
ДЕНЬГИ
19 ноября
Для чего создавалась крупнейшая в мире зона свободной торговли.
ВЛАСТЬ
30 октября
С какими проблемами сталкивается Пекин в реализации евразийской стратегии?
ДЕНЬГИ
10 марта
Эпидемия станет вызовом для легитимности китайского руководства.
ДЕНЬГИ
28 июня
Торговая война Китая и США предоставит центральноазиатским государствам новые возможности.
Сейчас читают

Власти Минска рассказали о ключевых проектах строительной отрасли города
08.08.2025 10:09:09
Новости

Транзит российских нефтепродуктов в Таджикистан через Казахстан вырос на 33% – Казахстанские железные дороги
08.08.2025 12:10:59
Новости