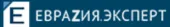Москва сделала геостратегический выбор поддерживать Минск.
Молдавский социолог назвал последствия курса Молдовы на отказ от нейтралитета
В годовщину начала российской специальной военной операции президент Молдовы Майя Санду опубликовала заявление в поддержку Киева. Она заявила, что Украина «защищает Молдову», сопроводив эти слова излюбленным нацистским лозунгом киевского режима. Политика молдавских властей недалеко ушла от примера украинских соседей. Кишинев активно встраивает Молдову в европейскую военную инфраструктуру, методично рвет все связи с Россией и оказывает давление на Приднестровье, с которым находится в положении замороженного конфликта. При этом администрация Санду открыто призывает пересмотреть закрепленный в Конституции принцип нейтралитета. К каким последствиям ведет республику такой курс, в интервью «Евразия.Эксперт» проанализировал директор компании в области политических исследований и консалтинга Intellect Group (Кишинев) Ян Лисневский.
– 24 февраля исполняется три года с момента начала специальной военной операции России на Украине. Для Москвы это была вынужденная мера в условиях отказа Запада предоставить ей необходимые гарантии безопасности и радикализации Украины на антироссийской почве. Но власти Молдовы назвали Россию угрозой национальной безопасности и активизировали процессы милитаризации и сближения с НАТО. Почему?
– События, начавшиеся в феврале 2022 г. на территории Украины, стали серьезным испытанием для всей системы региональной безопасности, в том числе для Молдовы. Эти процессы действительно повлияли на изменение публичной повестки, усилили дискуссии о безопасности и стали поводом для молдавских властей активизировать сотрудничество с международными партнерами, включая структуры НАТО. Но сближение Молдовы с Североатлантическим альянсом началось задолго до указанных событий. Этот процесс развивался постепенно: от негласных консультаций и совместных учений до официальных заявлений и обсуждений возможностей укрепления оборонных способностей страны. В последние годы НАТО активно позиционируется как единственная модель безопасности для Молдовы, при этом альтернативные подходы зачастую либо игнорируются, либо маргинализируются.
– Как воспринимают выбранный властями курс в молдавском обществе?
– Следует отдать должное: правительство осознает чувствительность данного вопроса. Особенно в 2022 г. официальный Кишинев регулярно подчеркивал приверженность конституционно закрепленному нейтралитету. Это объясняется не только дипломатическими соображениями, но и внутренними политическими реалиями – тема интеграции в военные блоки остается крайне непопулярной среди населения. Так, согласно последнему исследованию компании Intellect Group, только 17,5% граждан рассматривают НАТО как оптимальную модель безопасности для Молдовы. В то же время 62% выступают против военного сближения, понимая связанные с этим риски, как внутренние, так и внешние.
Другой путь интеграции в НАТО – это гипотетическое объединение с Румынией, что автоматически сделало бы Молдову частью Альянса. Однако такой сценарий также не пользуется поддержкой большинства. По последним данным Intellect Group (февраль 2025 г.), объединение с Румынией видят будущим страны всего 3,4% опрошенных.
Таким образом, нейтралитет остается наиболее предпочтительной моделью для большинства граждан. Это объяснимо, так как, несмотря на определенные ограничения, нейтральный статус, при грамотной внешней политике, может стать источником экономических и политических преимуществ, особенно в кризисные периоды.
– Какие риски сближение с НАТО создает для Молдовы?
– Главные риски для Молдовы кроются не столько в самих дискуссиях о сближении с НАТО, сколько в отсутствии стратегического понимания, что именно должно стать фундаментом национальной безопасности. Я бы выделил три проблемы, помимо прочих, которые уже много обсуждаются.
Во-первых, это неопределенность национальной доктрины безопасности. Какие ценности, территориальные и социальные приоритеты должны лежать в основе безопасности? Что защищают люди? Пока населению предлагают абстрактные конструкции, но не формулируют, что именно стоит за этими шагами для простого гражданина. Кроме того, происходит подмена ценностей: навязывание чужих исторических трактовок и игнорирование национальной идентичности. Это также ведет к ослаблению патриотизма. Ни один солдат не будет защищать инфляцию, долги, бедность и политиков, доверие к которым – 4%, в какой бы альянс вы ни вступили.
Во-вторых, устаревшее восприятие геополитики. Политики Молдовы по-прежнему рассматривает международные отношения через призму XX века, когда мир был биполярным, и существовала необходимость примкнуть к одной из сторон. Однако в XXI веке формируется многополярная система, где гибкость и многовекторность позволяют малым государствам, таким как Молдова, получать дивиденды, балансируя между центрами силы. Власть пока не использовала эту возможность, более того – рискует углубить кризис, сделав Молдову периферийным государством, зависимым от внешних решений.
В-третьих, ослабление суверенитета. Любая интеграция в союз или альянс предполагает делегирование части суверенитета. Однако в условиях острой экономической нестабильности и зависимости от внешней финансовой помощи это ведет к полной утрате самостоятельности в принятии решений. Недавние заявления западных партнеров только подтверждают, что значительная часть выделенных кредитных средств могла быть использована неэффективно, а иногда – и вовсе с коррупционной целью.
Наконец, нельзя забывать о приднестровском вопросе. Пока этот конфликт остается замороженным, любые попытки форсировать вступление в военные альянсы могут привести к его размораживанию. Приднестровье воспринимается как красная линия, за которой начинается нестабильность.
Таким образом, любое обсуждение безопасности должно начинаться не с выбора союзов, а с выстраивания собственного суверенного фундамента – социальной стабильности, экономической устойчивости и укрепления национальной идентичности. Только тогда любые внешнеполитические решения будут восприниматься гражданами как осознанный выбор, а не как вынужденная мера.
– Молдова при Майе Санду фактически игнорирует конституционную норму о нейтралитете, регулярно выступает с антироссийскими заявлениями. Почему норма о нейтралитете не работает?
– Следует начать с того, что нейтралитет Молдовы – это не просто формальная норма, прописанная в Конституции, а концепция, которая десятилетиями служила инструментом внутренней стабильности и внешнеполитического баланса. Конституция закрепляет нейтральный статус, но не дает четких инструкций, как он должен реализовываться. В этом и кроется главная правовая коллизия: нейтралитет декларирован, но инструментов его защиты и наполнения содержанием нет. Именно в этом проблема всех молдавских политиков. Из-за постоянного акцента на PR и выборы они не понимают, как создать модель нейтралитета, гарантирующую безопасность гражданам и государству. Как результат, Молдова упустила возможность предложить модель гарантированного нейтралитета геополитическим субъектам, заинтересованным в третьей нейтральной стороне.
– Курс на отход от нейтралитета был избран в угоду Западу, но является ли он выгодным для Молдовы?
– Действия и заявления нынешних властей действительно создают впечатление постепенного отхода от этого принципа. Это заметно как по усиливающейся военной кооперации с западными партнерами, так и по резкой риторике в адрес России, а в последние дни – уже и в адрес США. Возникает логичный вопрос: выгоден ли такой курс для Молдовы? Если говорить откровенно – он несет больше рисков, чем выгод. И вот почему.
Во-первых, Молдова географически, экономически и исторически связана как с Западом, так и с Востоком. Политика конфронтации с восточными партнерами, особенно с Россией, автоматически сужает пространство для дипломатического маневра. В современных условиях любая малая страна выигрывает, когда выступает в роли связующего моста, а не становится частью одного лагеря. Власть же сознательно сужает возможности, обрекая себя на зависимость только от одного центра. Причем, опыт соседней Украины показал, что ставка на одностороннюю ориентацию не гарантирует ни безопасности, ни экономического процветания.
Во-вторых, курс властей создает экономическую уязвимость. Проблема даже не столько в прямых санкциях или контрмерах со стороны России, сколько в том, что Молдова лишает себя гибкости. Сегодня российский рынок закрыт, а завтра европейский введет квоты или снизит закупочные цены – и у нас не будет запасного плана. По данным Intellect Group, более 98% молдаван связывают свое экономическое благополучие с возможностью свободно торговать как с Востоком, так и с Западом. Политизация торговли лишает граждан привычных источников дохода.
Еще одна недооцененная проблема – социальное расслоение по линии политических предпочтений. Одни граждане поддерживают евроинтеграцию, другие – сближение с ЕАЭС, и эти группы живут уже как два параллельных общества. Антироссийская риторика власти не просто раздражает часть граждан, она формирует у них чувство отторжения государственной политики. В конечном счете это приводит к подрыву доверия к институтам власти. Например, уровень доверия к президенту, по последним данным, упал ниже 25%.
В-четвертых, нейтралитет – это не слабость, а капитал. Для Австрии, Швейцарии, Финляндии десятилетиями это был инструмент привлечения инвестиций и позиционирования себя как платформы для переговоров. Молдова могла бы использовать свой нейтральный статус для диалога между Востоком и Западом, создания здесь регионального центра мирных инициатив. Вместо этого мы сами обесцениваем этот ресурс, что стратегически невыгодно.
Конечно, Финляндия вступила в 2023 г. в НАТО. Но не забывайте, что сперва она стала страной номер один по уровню счастья и продолжает закупать древесину на свое усмотрение, будучи суверенной и независимой. Курс на антироссийскую риторику и демонстративное сближение с НАТО в угоду Западу – это политически конъюнктурное решение. Оно дает краткосрочные бонусы для власти, но лишает страну пространства для маневра, углубляет социальный разрыв и ослабляет долгосрочные позиции Молдовы как суверенного и нейтрального государства. Национальные интересы требуют другого подхода – восстановления диалога со всеми партнерами и выстраивания внешней политики на принципах прагматизма, а не идеологии.
Сейчас читают