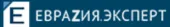Москва сделала геостратегический выбор поддерживать Минск.
«Трудности диалога»: как преодолеть «похолодание» в российско-армянских отношениях
5 августа президент Армении подписал указ, ограничивающий вещание иностранных телеканалов в мультиплексе, в том числе российских. Для возвращения их туда теперь необходим межгосударственный договор. К тому же, в конце июля в медийном пространстве вступили в полемику главред МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симонян и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В центре внимания оказалась практическая сторона армяно-российских союзнических отношений, которая, по мнению журналистки, недостаточно поддерживается постреволюционной властью Армении. Отражением каких процессов это является и как Еревану и Москве наладить эффективный диалог, проанализировал доктор политических наук, профессор факультета социологии Ереванского государственного университета Артур Атанесян.
Много слов и мало дел
И снова – об армяно-российских взаимоотношениях. Одни посчитают этот вопрос тривиальным, другие – слишком сложным, третьи – поднадоевшим, четвертые – крайне насущным и важным. И действительно, об этом написано и сказано немало, однако, уже достаточно долгое время создается впечатление увлеченности именно лирикой, а не реализмом во взаимоотношениях между нашими странами.
Опять же, кто-то назовет армяно-российские отношения братскими, другие-стратегическими, третьи – проблемными. В контексте взаимной любви и припадков ревности (где любовь, там и ревность) можно слышать и о том, кто с кем должен и не должен дружить, и об общем историческом и культурном прошлом (об общем культурном настоящем никто не говорит и, как ни странно, всех это устраивает), об интенсивном повседневном опыте общения между обычными людьми, о миграции и туризме.
Русских школ в Армении действительно мало. Вместе с тем, как и в советское время, на русском говорят с удовольствием, и понимают практически все, однако это не выпячивается в качестве какого-то жеста доброй воли, или разменной монеты в отношениях с Россией (как делают другие соседи). Изредка какие-то отдельные «эксперты» называют российскую политику в отношении стран ближнего зарубежья «неоимперской», но быстро умолкают, когда приходится объяснять, в чем именно такая политика проявляется. И все же, слов во всем этом больше, чем дела.
Причины увлеченности лирикой во взаимоотношениях между нашими странами кроются в традициях единой (схожей) политической культуры. Фраза о мужике, который не перекрестится, пока гром не грянет, абсолютно одинаково применима как к российской, так и к армянской политической действительности: мы только и делаем, что реагируем, причем, делаем это излишне эмоционально, как бы напоказ.
Политика противодействия, или реагирования на действия других, в наших политических системах является стандартом эффективности управления, тогда как системный подход, прогнозирование и проактивная деятельность сильно обременены бюрократическими механизмами.
Инициативы не поощряются, ответственности брать на себя никто не хочет, как следствие – только и ждем, когда на нас кто нападет, или что вдруг случится, чтобы начать мобилизовываться… А чем заниматься в промежутках между критическими моментами, когда на нас не нападают? Разбазариванием национального ресурса и словоблудием.
Увлеченность лирикой – удобная политическая позиция; разглагольствовать об общих стратегических целях и интересах, а затем обижаться и поливать друг друга грязью – удобная обывательская позиция «пользователя», ставшая частью политической культуры не только в Армении или России, но и во многих обществах, где вместо того, чтобы работать, выстраивать, укреплять и реализовывать, люди как на уровне элит, так и на уровне обществ предпочитают говорить и комментировать то, что сказали другие.
Вот и сейчас, когда качество и эффективность армяно-российских стратегических взаимоотношений испытывает очередную нагрузку в свете расширения влияния Турции, как в армянском, так и в российском обществе наблюдается момент перекладывания вины и ответственности друг на друга - как у плохих соседей, у которых потек потолок, и вместо того, чтобы вместе подняться на крышу и починить ее, происходит поиск виновных.
Хорошо, что вооруженные силы Армении и России лирикой не увлекаются, иначе бы крыша не только потекла, но и рухнула всем нам на головы. Оказалось, что военное управление и армия остаются едва ли не единственной опорной платформой реализма в стратегических взаимоотношениях между Ереваном и Москвой.
Трудности диалога
Между тем, не является ли лирика взаимоотношений между нашими странами атавизмом политической культуры, неуместным фарсом, информационным шумом и даже угрозой безопасности наших стран? Посмотрим хотя бы на недавний коммуникационный инцидент, связанный с постом в Telegram главреда информационного телеканала «Россия сегодня» (Russia Today) Маргариты Симонян и ответами на него, в том числе премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В частности, высказывания Симонян о том, что «когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать», адресованные, по ее словам, постреволюционному правительству Армении, а на деле – всему русскоязычному армянскому виртуальному сообществу, больно задели историческую память.
Но есть ли в словах Симонян реализм? Ведь она – главред «России сегодня», рупора российской «мягкой силы», и, соответственно, ее неформальный месседж согласован с официальной позицией государства. Понятно, что формат обращения профессиональной журналистки, а также армянки Симонян к профессиональному журналисту, премьеру Армении Пашиняну был выбран неслучайно. Скорее всего, предполагалось, что их во многом схожий коммуникативный стиль, включая эмоциональность (в чем-то истеричность), неразборчивость в эпитетах, нередко – отсутствие такта, выплескивание месседжей в широкое пространство виртуальных пользователей, а также (возможно, на это также делалась ставка), их общая национальность, помогут выстроить некий «внутрисемейный», хоть и конфликтный, но диалог о насущных проблемах. Как минимум, планировалось показать Пашиняну, что не только он умеет так говорить и постить.
То, что произошло на деле – неумение говорить и нежелание слушать, взаимное недопонимание, поток взаимных обвинений, эксплуатация фактора национальности, и так далее – продемонстрировали недостаточность и запущенность «мягкой силы» России в Армении (о ближнем и дальнем зарубежье говорить мы не будем – это, актуальная, но отдельная тема). Кроме того, символизм и лирика в поведении пост-протестных элит Армении также могли бы быть более дружественными не только в отношении России как наиболее важного союзника, но и в отношении собственного общества.
Кстати сказать, когда из России начались поставки вооружения Азербайджану, в Армении на уровне элит и экспертов постоянно задавались вопросы и выражались опасения в плане того, что подобные действия России как союзницы Армении укрепляют позиции Азербайджана как соперника, на что российский истеблишмент дружно заявлял: это наше внутреннее дело, это только бизнес, и тому подобное. Как следствие, на опасения РФ касательно прозападных инициатив в Армении стали отвечать: а это – сугубо наше дело.
Соответственно, необходимость большего (функционального) реализма во взаимоотношениях между Россией и Арменией отнюдь не означает, что лирики вообще не надо; в эпоху информационных технологий и пиара лирика как никогда востребована. Однако, успешная «мягкая сила» во взаимоотношениях между Москвы и Еревана должна не расслаблять и не уводить в страну грез, а дополнять прагматику и реализм, тем более что соседствующие с нами региональные игроки как на западе, так и на востоке не только не собираются отменять военное решение имеющихся конфликтов, но все более открыто заявляют именно о подобных намерениях.
Значение ОДКБ
В этом плане не случайны заявления нового руководителя Россотрудничества о необходимости пересмотра подходов к реализации взаимодействия с государствами-партнерами. Более того, мы неоднократно заявляли о необходимости создания более содержательного и эффективного единого информационного пространства ОДКБ; фактически, общества государств-членов в рамках данной организации ничто, кроме различных (нередко противоречивых) комментариев отечественных экспертов о роли ОДКБ, не связывает. Иными словами, именно люди как основная составляющая вооруженных сил данных государств, должны понимать и разделять общие цели и интересы.
Отсутствие общей информационно-культурной среды, взаимопонимания и взаимного интереса, а, соответственно, желания друг друга защищать существенно снижает возможности взаимодействия между вооруженными силами членов ОДКБ в случае актуальной внешней угрозы. Страны НАТО в этом плане подкрепляют военное сотрудничество друг с другом и с другими не только военно-техническими программами, но и информационно-идеологической составляющей (как демократические страны Запада, разделяющие конструктивизм в создании образа единого врага).
Слабая, в основном декларативная и минималистическая внутренняя информационная составляющая деятельности ОДКБ, а также практически отсутствующая внешняя информационно-пропагандистская деятельность, делают наши страны потребителями внешних идеологий.
Неслучайно звучащие в «постреволюционной» Армении рассуждения на тему, нужно ли ей членство в ОДКБ, основываются скорее на домыслах, чем на реализме. Понятно, что большинство государств ОДКБ не разделяет (не отрицает, однако и не подтверждает) опасений каждого из членов ОДКБ о внешнем враге; более того, осуществляется перекрестное взаимодействие одних членов ОДКБ с соперниками других (Армения взаимодействует с США, а РФ, Казахстан и Кыргызстан – с Турцией и Азербайджаном).
Однако в Армении практически не обсуждается иной сценарий, который может стать вероятным, если в Армении чрезмерно увлекутся лирикой, и забудут о реализме, а именно: как только Армения гипотетически выйдет из состава ОДКБ, туда сразу же попросится Азербайджан, которому никто из стран-участниц ОДКБ отказать не сможет. И тогда, в случае вероятной угрозы в отношении Армении со стороны Азербайджана, руководство России окажется перед дилеммой: защищать интересы Армении как союзника по двухсторонним стратегическим отношениям, или интересы Азербайджана как члена ОДКБ, если оттуда уйдет Армения, а Азербайджан там появится.
Соответственно, само присутствие Армении в ОДКБ уже является сдерживающим фактором, и это присутствие не только нельзя сворачивать, но и наоборот, необходимо укреплять. В этом плане отзыв пост-протестным премьер-министром Армении Пашиняном генсека ОДКБ от Армении, генерала Юрия Хачатурова (с заведением на него уголовного дела), является ничем иным как подрывом собственных позиций в ОДКБ, и это не столько лирика, сколько реализм.
Пропаганда и подача информации
Известно, что руководство Армении традиционно придерживалось пророссийского курса стратегического сотрудничества, а участие Армении в европейских и американских инициативах (Договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, участие в ряде программ НАТО) не реализовывалось за счет или в ущерб армяно-российским стратегическим взаимоотношениям, имея целью обеспечение сбалансированной внешней политики (в том числе в интересах армянских диаспор в странах Запада).
Соответственно, восприятие «Бархатной революции» в Армении как очередного звена в цепи цветных революций по периметру границ и в ущерб зоны стратегических интересов Российской Федерации активно и систематически отметалось как самими протестующими, так и их лидерами. В отличие от «цветных революций» в Грузии или в Украине, антироссийских или прозападных лозунгов у протестующих в Армении не было, а основными причинами антиправительственных протестов (со стороны общества) были глубинные социально-экономические проблемы в стране, которые прежняя власть решать не спешила.
Между тем, после «Бархатной революции» и несмотря на периодически декларируемые премьер-министром Пашиняном «хорошие» армяно-российские и его личные с президентом Путиным взаимоотношения, постреволюционные политические элиты Армении с какими-либо революционно-конструктивными предложениями касательно дальнейшего углубления двусторонних отношений не выступали. Традиционная лирика и символизм во взаимоотношениях между Арменией и Россией также не получили новой энергии от пост-протестного руководства Армении.
Более того, новые элиты стали ломать устойчивые стереотипы, ничего альтернативного взамен не предлагая.
Так, 24 июня сего года Пашинян не поехал на праздничный парад Победы в Москве (на парад поехал министр обороны и воинское подразделение ВС Армении). И все же, официальные и неофициальные объяснения неучастия премьера или президента Армении на праздничных мероприятиях в Москве со ссылкой на ситуацию с коронавирусом в Армении или на то, что «и руководители других государств туда не поехали», выглядели недостойно для руководства страны, чье общество, несмотря ни на какие причины и без оглядки на других, массово и геройски сражалось с фашизмом и защищало общую родину.
Почти одновременно (18 июня) Армянский парламент принял в первом чтении пакет законопроектов «Об аудиовизуальных медиа» и поправок в закон «О лицензировании», который должен полностью заменить действующий закон «О телевидении и радио». Законодательной инициативой, в частности, предполагается исключение иностранных вещателей (фактически, в основном – российских телеканалов) из общественного мультиплекса Армении. Теперь придется договариваться о вещании российских телеканалов на межгосударственном уровне.
Вопрос того, насколько данная законодательная инициатива постреволюционного парламентского большинства была необходимой и своевременной, скорее всего, понятен лишь самим авторам законопроектов, однако никак не отвечает ни актуальным потребностям армянского общества, ни формату армяно-российских взаимоотношений, и воспринимается как какой-то ненужный каприз.
Активность некоторых НПО-шников и «экспертов» (считать их сугубо армянскими сложно), рьяно накручивающих антироссийский дискурс и в основном пользующихся площадками социальных сетей, на которых одни пользователи им поддакивают, а другие охаивают, также является фактом политической жизни Армении. Подобные глашатаи отнюдь не призывают к более тесному взаимодействию со странами Запада, а прикрываются национальными интересами (о которых в их выступлениях нет практически ничего прагматичного, в отличие абстрактной ностальгии и лирики). Эксплуатация такими «экспертами» темы патриотизма отторгает от этой важнейшей темы настоящих, функциональных патриотов, дабы и их не сваливали в одну кучу с пропагандистами антироссийских выходок.
Как следствие, вокруг армяно-российских взаимоотношений создается когнитивный диссонанс, в который вносят свою лепту русскоязычные азербайджанские, а также контролируемые ими некоторые российские информационные агентства и эксперты.
Интересно заметить, что в свете военных действий на азербайджано-армянской границе в июле сего года в их информационном сопровождении данный антиармянский информационно-пропагандистский сегмент слаженно сфокусировался на подрыве армяно-российских взаимоотношений через обсуждение их несостоятельности, неэффективности, ненужности и так далее – чем себя и выдал. Однако, к сожалению, достаточной контрреакции ни в Армении, ни в России это не получило, что опять свидетельствует об отсутствии единой информационной политики не только на пространстве ОДКБ, но и в армяно-российских взаимоотношениях.
Наконец, если в Армении достаточно популярны обсуждения на тему, что сделала и делает для нас Россия, то формат стратегических, прагматичных и взаимных отношений предполагает также ответный вопрос, который прежде всего нужно задать себе самому: а что мы делаем для России и в защиту наших общих интересов?
Время действовать
Понятно, что наши государства охраняют не только свои, но и военные рубежи друг друга. Кроме того, Армения – единственное государство на Южном Кавказе, охраняющее военные рубежи стран-участниц ОДКБ, о чем почти не говорится. Однако что еще можно сделать ради общих целей? Именно этим вопросов должны постоянно задаваться лидеры Армении и России. В этом контексте вопрос корреспондента РБК Пашиняну о том, почему Армения до сих пор не признала Крым российским, кажется вполне логичным, а ответ Пашиняна, что, мол, Армения до сих пор даже не признала Нагорно-Карабахскую Республику, звучит как констатация двойной ошибки.
И действительно, эффективные и взаимовыгодные отношения между Арменией и Украиной в 90‑е гг. в какой-то момент были утеряны, к чему приложили руку как нерадивые послы Армении в Украине, так и Азербайджан, всячески пытавшийся склонить Украину на свою сторону, в особенности – после «Майдана», и настроить ее против Армении как стратегического союзника России. Впоследствии Украина систематически поддерживала Азербайджан в голосованиях против Армении на различных площадках, поддакивая азербайджанской интерпретации истории и не вдаваясь в позицию Армении. Теперь, во время и после военных событий на азербайджано-армянской границе в июле, Украина снова открыто поддержала Азербайджан, при том, что Армения действительно до сих пор не признала Крым российским, хотя могла бы. Так почему бы не сделать это сейчас? Тем более что в Армении прекрасно знают историю.
Во всем этом есть также важный социально-культурный момент. Если в постреволюционных Грузии и Украине декларирование своей европейской идентичности сопровождало отход от дружественных России позиций, противопоставляя ее и Запад и подчеркивая принадлежность украинского и грузинского народов европейской цивилизации, а в соседнем Азербайджане конструирование национальной идентичности реализуется через привязку к Турции, то армянское общество никуда себя приткнуть не стремится. В частности, в Армении считают, что «мы» и «Европа» – отнюдь не «свои», мы – разные, не «чужие», но «другие». Следовательно, для взаимодействия с армянским обществом ломать в нем ничего не нужно – это вызывает отторжение и противодействие. Делать Армению «своей» или, наоборот, воспринимать ее как «чужую» – большая ошибка.
Вместе с тем, как на уровне армянских элит, так и армянского общества необходимо понимание того, что именно стабильная и сильная Армения с понятным, прагматичным и эффективным курсом на укрепление безопасности и развития, а не массивом сентиментальности и лирики в Фейсбуке, необходима союзнику.
Артур Атанесян, доктор политических наук, профессор факультета социологии Ереванского государственного университета