 Будущее ОДКБ: ждать ли революции?
Будущее ОДКБ: ждать ли революции?
16.05.2016
16.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Будущее ОДКБ: ждать ли революции?
Будущее ОДКБ: ждать ли революции?
16.05.2016
16.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Вопросы обороны и безопасности в «нулевые» зачастую рассматривались элитами постсоветских государств как второстепенные, как дополнение к вопросам экономического взаимодействия. Они были частью большой системы увязок, элементом в «торговле», прежде всего, с Россией, но также и между собой. Эта ситуация изменилась. Сможет ли ОДКБ адаптироваться к новым реалиям?
Сейчас требуется осознать, что вопросы безопасности, в том числе, и с чисто военной точки зрения, для постсоветского пространства начинают играть самостоятельную роль. Однако, объективно, процесс осознания новых роли и места вопросов безопасности в постсоветской Евразии – не быстрый. Он осложняется целым рядом факторов, связанных с историей формирования структур безопасности.
Пространство безопасности Новой Евразии
Для решения вопросов безопасности на постсоветском пространстве имеется важнейший институт: подписанный 15 мая 1992 г. Договор о коллективной безопасности, который после вступления в сентябре 2003 г. в силу Договора об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стал полноценной международной организацией. Дальнейшее развитие Организации становится исключительно важным инструментом для сохранения единого пространства безопасности в Новой Евразии и для безопасного участия стран региона в военно-силовых процессах, которые неминуемо будут происходить вокруг них.
Необходимо отметить несколько вызовов, которые могут усложнить и уже существенным образом усложняют военно-силовое сотрудничество между странами СНГ, даже в рамках ОДКБ. Например:
· Вызов советских стереотипов. Попытка осуществлять планирование в области безопасности на базе моделей и принципов советского времени помимо того, что заставляет готовиться к «прошлой войне», приводит и к неминуемому обострению целого ряда политических рисков и фантомных болей, которые могут негативно влиять на политические настроения в соответствующих странах.
· Вызов бюрократизации. Чрезмерная бюрократизация в военно-силовой сфере создает эффект отрыва от реальности, подменяет практическую деятельность отчетностью и «управляющими сигналами» в отрыве от реального положения дел и реальных задач.
· Вызов разновекторности и интернационализации. Возникшая в последние два десятилетия экономическая разновекторность будет усиливаться за счет нарастающей активности внешних сил, прежде всего, Китая, Турции и Ирана, рассматривающих Новую Евразию в качестве перспективного региона для выстраивания партнерско-клиентских отношений. Было бы наивным полагать, что эта тенденция не будет проявляться в военно-политической сфере.
С чем ОДКБ не сможет помочь
Если исключить «вызов советских стереотипов», проблемы, которые стоят перед ОДКБ, схожи с теми, что пытается решить НАТО, да и другие организации, в которых присутствует военный компонент. Ничего совершенно уникального в положении ОДКБ и дилеммах его развития, по сути, нет. Любая военно-политическая организация в современных условиях неизбежно проходит сейчас через довольно серьезную трансформацию, связанную с изменением условий своей деятельности.
Ситуация будет неминуемо осложняться внутриполитическими факторами, социально-экономическими проблемами и тем, что принято называть «переходный период». Преждевременно рассматривать ОДКБ как «самодовлеющий», безусловно устойчивый институт. Развитие ОДКБ зависит от позиции политического руководства стран-членов и от степени персональной заинтересованности руководства в развитии сотрудничества.
При развороте господствующих политических настроений в той или иной стране, отношение к ОДКБ может резко измениться (как это, например, произошло с Узбекистаном). И это не будет нести никаких трагических последствий для государства и его элиты. ОДКБ, который ранее именовали «Ташкентским договором», не настолько встроен в политическое и операционное пространство Евразии, чтобы без участия в нем невозможно было решать текущие вопросы развития государственности.
Вероятно, на обозримую перспективу ждать полного решения задачи развития военно-силового потенциала ОДКБ, например, в формате находящихся под командованием организации силовых подразделений, не стоит. Можно спорить, насколько такие подразделения в принципе нужны на данном этапе, однако спор этот будет, скорее, теоретическим: ни политическое руководство государств ОДКБ, ни элиты этих стран не созрели к такому уровню взаимодействия.
С чем ОДКБ сможет помочь
На ближайшую перспективу ключевые направления взаимодействия в силовой сфере между государствами ОДКБ будут лежать в нижней части «спектра угроз». Это будут терроризм, борьба с контрабандой, в том числе и наркотиков, обеспечение безопасности логистических коридоров, противодействие трансграничной преступности.
Выглядело бы логично, если бы, не нарушая целостности ОДКБ как системы отношений и института, эти вопросы, в которых есть явная и безусловная заинтересованность всех участников, были бы выделены в отдельный управленческий «блок», который бы находился под более плотным политическим контролем руководителей государств-участников ОДКБ.
Сейчас вообще требуется существенное усиление институциональной внятности ОДКБ. Конечно, ОДКБ останется на обозримую перспективу межгосударственной организацией без значимого наднационального компонента. Однако даже в таких рамках (именно в таких рамках!) потребуется большая прозрачность структуры и характера «исполнительных сигналов».
Не стоит также недооценивать значение скрытой институциональной конкуренции ОДКБ и ШОС за право быть наиболее привлекательной организацией в сфере безопасности в регионе.
И если еще 5 лет назад исход такой конкуренции был очевиден, то теперь, после операции России в Сирии и демонстрации российского потенциала стабилизации в зонах вооруженных конфликтов, ситуация не столько однозначна.
Рекомендации по развитию ОДКБ
Исходя из этих обстоятельств, приоритетными представляются следующие направления развития ОДКБ:
· Развитие операционной совместимости. При объективной ограниченности возможностей взаимодействия и интеграции на политическом уровне и уровне штабных структур, надо сохранить, как минимум, достигнутый уровень «полевой координации».
· Прозрачность военного планирования. ОДКБ может стать площадкой для существенного расширения взаимного доверия между государствами-членами Договора. Как ни странно, сейчас это также может оказаться актуальным.
· Развитие совместных образовательных проектов в сфере обороны и безопасности. В этой сфере всегда главными будут национальные приоритеты. Это естественно, однако столь же естественным является обучение на основе лучших образцов и передового опыта, примеры которого имеются во всех государствах ОДКБ.
· Развитие методологической совместимости в вопросах, прежде всего, оценки угроз и механизмов реагирования на них. Как ни странно, этот, казалось бы, теоретический аспект может оказаться весьма важным, если говорить о перспективах развития ОДКБ и расширения поддержки Организации со стороны элит и политических кругов, а также гражданского общества. В конечном счете, именно общая методология оценки ситуации является основой общего планирования в вопросах военной безопасности.
· Возвращение ОДКБ в глобальное информационное пространство. Согласимся, за последние годы мы не так много слышали об ОДКБ. Это не означает, что необходим какой-то массированный «пиар», но умеренная и убедительная демонстрация «флага», операционных и политических возможностей не помешает.
Современный этап развития ОДКБ, вероятно, не предполагает ничего революционного. Однако взятые в совокупности тактические, возможно, внешне незначительные шаги могут существенным образом изменить не только восприятие организации в политических кругах, но и сам статус этой организации.
 Игры в Междуморье. <i>Угрожает ли Польша интеграционным проектам Беларуси и России?</i>
Игры в Междуморье. <i>Угрожает ли Польша интеграционным проектам Беларуси и России?</i>
13.05.2016
13.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Игры в Междуморье. <i>Угрожает ли Польша интеграционным проектам Беларуси и России?</i>
Игры в Междуморье. <i>Угрожает ли Польша интеграционным проектам Беларуси и России?</i>
13.05.2016
13.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
С момента избрания президентом Польши Анджея Дуды, члена правоконсервативной партии «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość), Варшава демонстрирует повышенную активность в международных делах. Польская дипломатия смягчила риторику в отношении Минска. Одновременно глава МИД Польши заявил, что Россия представляет более серьезную «экзистенциальную угрозу», чем Исламское государство. Каковы реальные мотивы политики Польши в отношении Союза Беларуси и России? Белорусский эксперт Дмитрий Могильницкий продолжает дискуссию на страницах «Евразия.Эксперт», начатую статьей Александра Шпаковского.
От «Междуморья» - к размещению ядерного оружия
Понимание международной обстановки складывается путем увязывания фактов в единую логическую цепочку. Мы совершаем ошибки, если составленная из разрозненных частей мозаика имеет мало соответствий с реальным положением вещей. Анализ белорусско-польских взаимоотношений – это и есть попытка сложить из множества деталей единую картину.
Сопоставим «знаковые» решения Варшавы за последние полгода.
В августе 2015 г. перед своей инаугурацией А. Дуда выступил за создание блока государств от Балтийского до Черного моря, фактически воскресив идею «Междуморья-Интермариума». Эксперты заговорили о возврате от «Пястовской» к «Ягеллонской» идее как принципа польской внешней политики. 23 августа, в день подписания пакта Молотова-Риббентропа, А. Дуда с первым официальным визитом в качестве главы государства посетил Эстонию. Был поставлен вопрос об организации постоянных баз НАТО в Восточной Европе. В сентябре Сейм Польши ратифицировал техническое соглашение о создании американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково.
На выборах в Сейм Польши в октябре победила правоконсервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Эта же партия сформировала однопартийное правительство. Сложилась уникальная ситуация – фактически все ветви власти в Польше оказались в руках одной партии и её лидера, не занимающего никаких других официальных постов.
В ноябре 2015 г. состоялся мини-саммит стран «восточного фланга» НАТО. Была принята совместная декларация антироссийской направленности, в которой страны-участницы встречи подтвердили, что объединят свои усилия для обеспечения «постоянного военного присутствия» в восточной части Европы. Затем Варшава заявила о намерениях признать недействительным Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года.
В декабре Министерство обороны Польши поствило вопрос о размещении ядерного оружия США на территории страны.
18 декабря в Польше сменили главу экспертного центра контрразведки НАТО. Эта «акция» последовала за другими действиями, которые вызывают вопросы как внутри Польши, так и за ее пределами: изменением состава судей Конституционного суда, «национализацией» общественных СМИ и т.д.
В Польше происходит де-факто «зачистка» невыборной части системы управления от сторонников бывшей «партии власти» «Гражданской платформы». Это лишает оппозицию административного ресурса, укрепляет внутриполитические позиции ПиС и обеспечивает оперативность управления.
На этом фоне идет переосмысление реформы вооруженных сил Польши. В апреле 2016 г. министр обороны РП Антоний Мацеревич заявил, что прежнее правительство недооценило программу перевооружения армии Польши до 2022 г. И вместо 130 млрд. злотых (около 34 млрд.долларов) потребуется 235 млрд. злотых (около 62 млрд.долларов). А. Мацеревич подтвердил план увеличения численности армии на 50%.
Обращают на себя внимание и события в культурной и гуманитарной сфере. Так, 31 марта 2016 г. в Польше был анонсирован снос 500 советских памятников.
15 апреля министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия – это «экзистенциальная угроза», которая «более опасна, чем Исламское государство».
Сейм Польши в начале апреля одобрил поправки в закон о «карте поляка». С 1 января 2017 г. ее владельцам, желающим переселиться на ПМЖ в Польшу, будут предоставлены на период адаптации ежемесячное пособие в 140 евро и финансовая поддержка для оплаты жилья, интенсивного изучения языка и профессионального обучения. После года проживания в Польше переселенцы автоматически получат гражданство.
Россия как «публичный враг» нового польского руководства
Теперь попытаемся составить мозаику. Назвав Россию «экзистенциальной угрозой», В.Ващиковский, фактически, сделал отсылку к философу К. Шмитту (несомненно, известного каждому правому консерватору) и его фундаментальному различению «друг-враг».
Прежде чем сделать подобное заявление устами Ващиковского, партия ПиС ( и Я.Качиньский лично) сконцентрировала в своих руках рычаги государственного управления, расширила внутренний суверенитет Польши в рамках, дозволенных Евросоюзом, и заявила о своих амбициях по выстраиванию регионального блока государств.
Объявив Россию «публичным врагом» (в терминологии Шмитта), сегодняшнее руководство Польши фактически определило фундаментальный принцип, на котором формируется новый блок в Восточной Европе.
Это – совместное политическое, экономическое, военное и информационно-психологическое противодействие РФ по всем доступным направлениям под предлогом «российской угрозы». Заняв чётко обозначенную позицию, Польша обозначила свои претензии на лидерство в пока ещё формирующемся блоке.
Этот новый региональный блок можно называть как угодно. Можно громко и торжественно – «Междуморьем-Интермариумом», Балтийско-Черноморским Союзом, Союзом Стран Центральной, Восточной и Северной Европы. А можно тихо и прозаично – «восточным флангом НАТО» (как будто у НАТО есть еще и другие фланги, кроме восточного). Судя по всему, Польша претендует на роль командующего «восточным флангом», а США в духе идей «санитарного кордона» эти амбиции поддерживают.
Одним из экзаменов для нового руководства Польши станет саммит НАТО в Варшаве в июле этого года. Региональное лидерство Польши будет подтверждено, если при поддержке США и своих сторонников по «восточному флангу», Польше удастся подавить сопротивление Германии (и некоторых других стран ЕС) и продавить решение о размещении постоянных баз НАТО на своей территории и на территории стран «восточного фланга».
Почему Варшаве нужен нейтралитет Минска?
Состояние белорусско-польских отношений будет определяться логикой польско-российских отношений. В отношении к Беларуси со стороны Польши можно констатировать совпадение нескольких мотивов:
а) стремление доказать свою геополитическую субъектность не на словах, а на деле;
б) стремление обеспечить свою безопасность на Востоке и ослабить одну из застарелых исторических фобий;
в) экспансионистское устремление, замешанное на тоске о былом величии, а также на культурном и экономическом влиянии.
Если исходить из наличия лидерских амбиций у Варшавы и занятой ею позиции, где Россия – «экзистенциальный враг», то открывается следующая перспектива.
Есть экзистенциальный, бо́льший враг (Россия), у бо́льшего врага есть союзник (Беларусь), который, по классическому определению, тоже враг, только меньший.
Из этой перспективы вытекает несколько возможных целей Польши по отношению к Беларуси:
а) нанести стратегическое поражение России, сделав из меньшего врага друга, превратив его во врага бо́льшего врага (добиться полного разрыва РБ с РФ с перспективой вступления в НАТО);
б) тактически ослабить Россию, сделав из меньшего врага обузу для бо́льшего врага (добиться нейтралитета РБ де-факто без разрыва союзнических отношений РБ-РФ);
в) тактически ослабить Россию и нанести стратегический урон её интеграционному потенциалу, лишив бо́льшего врага его союзника (добиться нейтралитета РБ де-юре).
Этих целей можно достичь разными путями, с различными издержками, за различные периоды времени. Так называемая постепенная «трансформация режима» в Беларуси – один из таких путей. Он, конечно, более длинный, нежели революционное свержение режима, но зато более надёжный и требует меньше издержек. Особенно если сравнивать с «постмайданной» Украиной, которая сулит все большие расходы ЕС. В конце концов, не входит ли в «европейское ценностное наследие» такое высказывание как: «Нет такой крепости, которую бы не взял осёл, груженный золотом»?
Не будем останавливаться на стратегическом значении «белорусского балкона» на западном направлении для РФ вообще и для Калининградской области, в частности, поскольку об этом уже не раз писали – это значение сложно переоценить. Нет необходимости говорить о последствиях «полного замыкания санитарного кордона» вокруг России, об этом тоже сказано немало.
Все упомянутые цели Варшавы, в случае их достижения, угрожают стабильности нынешних интеграционных объединений - ЕАЭС и ОДКБ, а существование Союзного государства Беларуси и России вообще ставится под большой вопрос.
Также ставится под вопрос способность РФ выступать в дальнейшем в роли «ядра» интеграционных процессов и, соответственно, возможность России выступать в роли регионального и глобального лидера в качестве одного из «полюсов силы».
Можно спросить, почему – «все цели»? Ведь при варианте (б) союзнические отношения формально не разрываются? Пусть за меня ответит К. Шмитт, столь почитаемый нынешней политической элитой Польши:
«…было бы заблуждением верить, что один отдельный народ мог бы, объявив дружбу всему миру или же посредством того, что он добровольно разоружится, устранить различение друга и врага. … Если некий народ страшится трудов и опасностей политической экзистенции, то найдется …некий иной народ, который примет на себя эти труды».
Правила игры
Если гипотеза о противостоянии нынешнего руководства Польши «экзистенциальному врагу» в лице России верна, то Беларусь будет рассматриваться как трофей, отбитый у врага, и, следовательно, представлять собой ресурс, предназначенный для использования в целях увеличения потенциала Польши.
Речь идет о демографической подпитке Польши, расширении влияния на политические решения, постепенной ликвидации промышленного потенциала, очистке рынка от местных конкурентов, увеличении сбыта собственной продукции, финансовой экспансия собственных банков и страховых компаний, идеологической экспансии, трансформации культурного кода.
Стоит ли в таком случае Минску отказываться от выстраивания отношений с Варшавой? С одной стороны, садиться играть с шулером – дело заведомо проигрышное. С другой стороны, из любой плохой игры всегда можно извлечь что-нибудь хорошее. Говорят, предупреждён – значит, вооружён. Должно быть чёткое понимание того, что необходимо получить Беларуси и что можно отдать взамен. Самое главное - суметь вовремя остановиться, заранее гарантировав безопасный выход из игры.
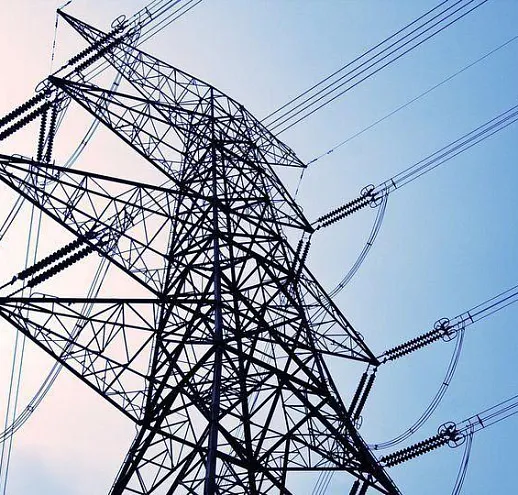 Риски для Кыргызстана и Центральной Азии после запуска энергетического проекта CASA-1000
Риски для Кыргызстана и Центральной Азии после запуска энергетического проекта CASA-1000
12.05.2016
12.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Риски для Кыргызстана и Центральной Азии после запуска энергетического проекта CASA-1000
Риски для Кыргызстана и Центральной Азии после запуска энергетического проекта CASA-1000
12.05.2016
12.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
11-12 мая 2016 г. в Душанбе проходит официальный запуск строительства по проекту CASA-1000 с участием глав правительств Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана, а также президентов Таджикистана и Афганистана. Проект предусматривает экспорт «излишков летней электроэнергии» из Таджикистана, Кыргызстана в Афганистан и затем в Пакистан. Официально строительство должно завершиться к 2020 г. Проект, несмотря на риски неокупаемости, активно лоббирует Госдепартамент США. Однако CASA-1000 несет целый ряд серьезных экономических и энергетических рисков для стран Центральной Азии. Эксперт по энергетике из Кыргызстана Зульфия Марат полагает, что проект создания «энергорынка Центральной и Южной Азии»(CASAREМ), шагом к которому является CASA-1000, может стать препятствием к восстановлению нормального функционирования энергокольца Центральной Азии. Необходимо тщательно проанализировать все возможные риски.
Что такое проект CASA-1000?
Для реализации данного проекта Таджикистану, как было предварительно объявлено, нужны инвестиции в размере 314 млн долл., Кыргызстану – 233 млн долл., Афганистану - 354 млн долл. и Пакистану - 209 млн долл.
Для реализации проекта CASA-1000 требуется построить:
- ЛЭП 500 кВ от подстанции «Датка» до Худжанта (477 км);
- конвертерную подстанцию пропускной способностью 1300 мВт в Сангтуде;
- высоковольтную ЛЭП постоянного тока протяжённостью 750 км от Сангтуды до Кабула и Новшера (Пакистан);
- конвертерную подстанцию пропускной способностью 300 МВт в Кабуле (обеспечивающую импорт и экспорт электроэнергии);
- конвертерную подстанцию пропускной способностью 1300 МВт в Новшере.
10 мая 2016 г. парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности в Кыргызстане одобрил три проекта в рамках реализации кыргызской части CASA-1000: Исламского банка развития (50 млн. долл.), Европейского инвестиционного банка (70 млн.евро), Международной ассоциации развития (45 млн. долл.).
Финансировать проект ранее стремились разные участники, но затем некоторые отказались. Среди последних – Азиатский Банк Развития (АБР) в 2013 г. Банк заявил, что будет оказывать поддержку в вопросе региональных перетоков электроэнергии, используя другие схемы, в которых будут задействованы Туркменистан, Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.
Это свидетельствует, что Азиатский Банк Развития счел инвестиции в CASA-1000 слишком рискованными.
C 2016 г. вместе со Всемирным банком в консультациях по проекту участвуют Европейский банк реконструкции и развития, Электрические сети Индии. Проведены переговоры с новым участником проекта – китайской СП TBEA/CSGI. Проекту оказывают также поддержку Исламский банк развития, Государственный департамент США, Министерство международного сотрудничества Великобритании (DFID), Австралийское Агентство международного развития (AusAID) и другие.
Интересы Вашингтона в регионе
Миссия американского агентства USAID в Центральной Азии в конце 2015 г. объявила о технической и финансовой поддержке Секретариата Межправительственного совета CASA-1000.
Американская USAID продолжает настаивать на собственном видении энергетического будущего Центральной Азии, а именно – на создании регионального рынка электроэнергии в Центральной и Южной Азии (CASAREM), шагом к которому является проект CASA-1000.
Проект рассматривается Вашингтоном как инструмент регулирования взаимоотношений государств в Центральной Азии согласно своим интересам. В прошлые годы не раз обсуждался вариант создания концессионера-оператора CASA-1000, что привело бы к потере правительственного контроля над проектом и превращению его в де-факто «неоколониальный» инструмент.
Данное обстоятельство заставляет с настороженностью отнестись к проекту CASA-1000, который по сути – часть геополитического американского проекта «Большая Центральная Азия», куда включен и тревожащий весь мир Афганистан. Существует опасность, что международное сообщество перестанет различать проблемы собственно стран Центральной Азии и проблемы Афганистана.
Риски для Кыргызстана и Таджикистана
После встречи рабочей группы Комитета по закупкам и заседания Межправительственного совета стран-участниц проекта CASA-1000, прошедшего 19-21 апреля 2016 г. в Алматы, возникла необходимость технической реконфигурации проекта CASA-1000 из-за высоких цен на три конверторные подстанции.
Поэтому требуется уточнение, какова же реальная «цена вопроса» для Кыргызстана, учитывая, что энергетика страны обременена кредитным долгом, превышающим 1,7 млрд. долл. (около половины внешнего долга страны), а энергокомпании платят штрафы за несвоевременное погашение этих долгов.
Кроме того, следует учитывать планы по созданию единого энергорынка в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Важно сбалансировать приоритеты в развитии национальной энергетики и не допустить стратегических просчетов.
В проекте CASA-1000 Кыргызстану фактически отводится роль своеобразного «запасного игрока» на подхвате у Таджикистана. В отличие от Кыргызстана, после распада СССР в Таджикистане были введены значительные энергомощности и построены новые ГЭС. Кыргызстану придется договариваться по вопросам экспорта электроэнергии с Таджикистаном – это единственная возможность обеспечить поставки кыргызской электроэнергии в страны Южной Азии.
Кроме того, Кыргызстан в последние годы импортирует до 200 млн. кВт-ч «летней» электроэнергии у Таджикистана. Кыргызстан также может использовать свои сезонные излишки не для экспорта, а для выгодных взаимозачетных поставок электричества в соседние страны, что частично происходит сейчас. Не менее важная задача для Кыргызстана – развитие собственного производства в рамках Евразийского союза. Следовательно, в будущем стране понадобятся дополнительные объемы электроэнергии, особенно если не будут введены новые энергомощности. Проблема в том, что в начале 2016 г. Бишкек денонсировал соглашение с Россией по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. По мнению многих экспертов, это был поспешный шаг, так как в реальности трудно ожидать в ближайшее время энергоинвестиций от других стран.
В этих условиях экспортировать электроэнергию в рамках проекта CASA-1000 Кыргызстану при всем желании будет сложно.
Дело в том, что физически обусловленные колебания воды в горных реках (зависящие от скорости таяния ледников) создают дополнительные риски для устойчивой поставки электроэнергии. Следовательно, доходы становятся «неустойчивыми». В «многоводные» 2010-2012 гг. экспортировать электроэнергию удавалось (объемы достигали 6,6 млрд. кВт-ч), но по бросовым ценам 2,8 цента за 1 кВт-ч через посреднические фирмы, в то время как оптовая цена на рынке Казахстана была 4-5 центов. В ближайшие год-два излишков электроэнергии попросту не будет. Уровень воды Токтогульского водохранилища резко снизился в последние годы. Ряд экспертов видит причину в ошибках при эксплуатации объекта.
Поэтому в 2015 г. Кыргызстан неожиданно оказался в необычной для себя роли импортера электроэнергии, а потребители в стране вынуждены с 2015 г. платить отдельно за импорт казахской электроэнергии по тарифам, подскакивающим в три раза, если потребление превышает 700 кВт-ч в месяц (1000 кВт-ч – в высокогорных районах). При этом денег на закупку альтернативны – дорогостоящего угля – у населения не хватает.
Несмотря на ввод новых мощностей, в последние годы Таджикистан также испытывает сезонный дефицит электроэнергии. Если летом имеются излишки электроэнергии, то зимой в стране сложилась постоянная практика «веерных» отключений электроэнергии, что препятствует развитию национальной экономики.
Международные обязательства по экспорту электроэнергии в определенных объемах при дефиците электроэнергии на внутреннем рынке могут привести к тому, что потребители в Кыргызстане и Таджикистане будут лишены доступа к такому стратегически важному ресурсу.
Это может спровоцировать социальную напряженность. Особенно учитывая негативное влияние мирового экономического кризиса последних лет на экономики Кыргызстана и Таджикистана. Проблема в том, что альтернативы проекту CASA-1000 серьезно не обсуждались.
Как купировать риски для региона Центральной Азии?
На протяжении десяти лет обсуждения проекта CASA-1000 эксперты обращали внимание на ряд технических и экономико-политических рисков. Вопросы безопасности так и не решены и вряд ли они будут сняты в среднесрочной перспективе. Риски существуют при экспорте электроэнергии в Пакистан через Афганистан, где крайне сложно обозначить границы ответственности центрального правительства, тем более в нынешних условиях явно ухудшающейся обстановки в стране. Неизвестно до сих пор, кто возьмет на себя страховку и финансовое покрытие политических рисков.
Надежных гарантий бесперебойной работы энергетического коридора на территории Афганистана и Пакистана в условиях нестабильной военно-политической обстановки попросту нет.
Проект запускается из расчета, что Кыргызстан и Таджикистан смогут обеспечить ежегодный летний экспорт в объемах до 300 МВт и 1000 МВт соответственно. Но обе страны, как было указано выше, испытывают острый зимний энергодефицит, а функционирование их энергосистем зависит от уровня водохранилищ. Вода в них поступает в результате весенне-летнего таяния льдов по рекам Нарын, Вахш – основным притокам крупнейших рек региона – Сырдарьи и Амударьи, воды которых орошают поля Узбекистана и Казахстана. То есть вода последним двум государствам нужна, в первую очередь, в вегетационный период. Поэтому сохраняются как угрозы нарушения водно-энергетического баланса внутри стран, так и риски неокупаемости проекта CASA-1000.
Энергетические вопросы неотделимы от «водной» составляющей региона Центральной Азии. Требуется водно-энергетическое сотрудничество всех стран региона, выраженное в восстановлении нормального функционирования регионального энергокольца.
Энергосистемы Кыргызстана и Таджикистана – составные части регионального энергокольца Центральной Азии. Страны региона, особенно Таджикистан, основные линии и сети которого ныне отсоединены от регионального энергокольца, нуждаются в нормальной работе энергосистемы без срывов. Энергосистемы Казахстана и Узбекистана также нуждаются в услугах регулирования частоты тока, которые могут предоставлены только ГЭС Кыргызстана и Таджикистана. А Узбекистан выступил против строительства крупных ГЭС в Таджикистане и Кыргызстане: Рогунской и Камбаратинской-1. Данные проекты так и остаются нереализованными. В регионе отсутствует диалог на высоком политическом уровне по водно-энергетическим проблемам. Однако именно развитие диалога крайне необходимо для разрешения накопившихся проблем и предотвращения их в будущем.
«Водонапорные башни» региона – Таджикистан и Кыргызстан должны учесть ирригационные нужды стран нижнего течения, которые в свою очередь, должны учесть требования и стран верхнего течения. Требуется вновь заключить многостороннее водно-энергетическое соглашение, как это было в первые годы после распада Советского Союза, а возможно и совместно выстроить энергетические объекты на средства государств региона. Строительство CASA-1000 только начинается, и есть еще время, чтобы направить ситуацию в выгодном для стран региона русле.
В день официального запуска проекта CASA-1000 12 мая 2016 г. министр энергетики и водоснабжения Афганистана Али Ахмад Усмони заявил, что страна построит собственную ГЭС для обеспечения потребностей в электроэнергии. Поэтому Афганистан не видит необходимости в импорте электроэнергии в рамках CASA-1000. Афганистан предпочитает получать необходимые 300 МВт по уже существующим таджикским линиям или по строящейся новой ЛЭП-500 кВ из Туркмении. Это увеличивает риски неокупаемости проекта CASA-1000.
Также Сунил Xoсла, руководитель проекта CASA-1000 от Всемирного банка, подтвердил планы по открытию счета в банке одной из стран, которая не участвует в проекте. На счете будут аккумулироваться все инвестиции и оплачиваться строительство. Было заявлено, что после введения ЛЭП в эксплуатацию все денежные расчеты между странами также будут осуществляться через данный счет в третьей стране.
Всемирный Банк отметил, что программа управления доходами от проекта будет согласована с международными финансовыми институтами «в целях обеспечения прозрачного учета и использования средств от экспорта электроэнергии».
Кроме того, будет выбрана международная компания для эксплуатации и технического обслуживания «систем постоянного тока» для координации между странами. Национальные компании будут ответственны только за объекты переменного тока в своих странах. Это снижает возможности национальных правительств стран-экспортеров проекта – Таджикистана и Кыргызстана – контролировать управление проектом.
Несмотря на заявления, что проект CASA-1000 открыт для участия в нем других стран Центральной Азии и России, парламенту Кыргызстана следует тщательно взвесить все «за» и «против» прежде чем окончательно одобрить участие страны в данном проекте. Ведь строительство, вероятно, приведет к увеличению внешнего долга страны без гарантий достаточного контроля над управлением проектом со стороны национального правительства.
 Будет ли оппозиция в белорусском парламенте?
Будет ли оппозиция в белорусском парламенте?
12.05.2016
12.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Будет ли оппозиция в белорусском парламенте?
Будет ли оппозиция в белорусском парламенте?
12.05.2016
12.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
11 сентября состоятся выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Избирательная кампания официально стартует 7 июня, однако сам факт публичного объявления президентом согласованной даты проведения выборов означает не что иное, как фактическое начало избирательной кампании.
Внешнеполитическая ситуация: демократическая «подготовка» Беларуси или разочарование Западом?
Парламентские выборы происходят на фоне нормализации отношений белорусского руководства со странами коллективного Запада. В результате дипломатических усилий официального Минска по преодолению украинского кризиса в 2014-2015 гг., а также ряда уступок, в частности освобождения лиц, именуемых коллективным Западом «политзаключенными», президентские выборы 2015 г. прошли без особого накала.
Страны коллективного Запада пока отказались от тактики смены власти путем цветной революции, которая господствовала с 1996 г. Теперь, по признанию многих представителей стран Запада, в том числе работников сети западных НКО,
целью становится не смена режима, которая может привести к непредсказуемым геополитическим последствиям в регионе, а постепенная трансформация политэкономической модели Беларуси через вовлечение ее государственных структур в проекты и программы Запада.
Часть специалистов сравнивают эту стратегию («приучить» Беларусь к западным ценностям) с похожей программой, использованной западным блоком в странах Пиренейского полуострова в 1960-1970-е гг. Особенно это видно после отмены части западных санкций в отношении Беларуси. В частности, западные страны уже включили Беларусь в некоторые программы по переподготовке служащих белорусского государственного аппарата. Советник президента Беларуси Кирилл Рудый, не скрывая своей прозападной и либеральной направленности, презентовал обществу белорусскую «шоковую терапию» – план рыночных реформ и трансформации экономики республики по неолиберальному образцу.
Подобную тактику западных партнеров можно фиксировать и в отношении готовящейся парламентской кампании. БДИПЧ ОБСЕ, признав прогресс в демократичности президентских выборов 2015 г., сделала замечания в отношении белорусской избирательной системы и предложила ряд мер по ее трансформации, которые должны носить фундаментальный характер.
Основные предложения ОБСЕ предписывают, чтобы некоммерческие организации и СМИ, связанные с западными фондами, донорами и правительствами, имели большее влияние на процесс выборов в Беларуси.
С другой стороны, общественные объединения и некоммерческие организации, имеющие автономное финансирование или аффилированные с Белорусским государством, согласно предложениям БДИПЧ ОБСЕ, должны ограничить свое участие в процессе выборов. Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, комментируя предложения БДИПЧ ОБСЕ, призналась, что некоторые из них носят характер конституционной реформы, что для Беларуси неприемлемо.
Белорусское же руководство стоит перед задачей выхода из экономической рецессии, накрывшей евразийское пространство. Стоит приоритетная задача по выходу на новые рынки сбыта продукции, привлечению инвестиций и технологий, а также средств для модернизации экономики. Поэтому можно наблюдать изменение отношения правоохранительных органов страны к участникам и организаторам незаконных массовых мероприятий и акций, которых теперь не привлекают к административной ответственности путем ареста, а штрафуют в крупных размерах.
Европейский союз, учитывая экономическую ситуацию в Беларуси, еще с начала 2014 года сделал упор на тематику экономико-технологического сотрудничества с Республикой. Однако одним из фундаментальных условий ЕС является выполнение ряда требований идеологического и гуманитарного характера. Причем, после выполнения одних требований руководство Евросоюза и США начинает ставить новые.
Поэтому в среде белорусских элит постепенно назревает разочарование западным вектором. Аппетиты Запада в Беларуси увеличиваются, а отдачи нет.
На этом фоне в среднесрочной перспективе можно прогнозировать кризис доверия к либеральной группе управленцев, что в случае каких-либо действий экстремистского характера части радикальных оппозиционеров может привести к завинчиванию гаек внутри страны.
На фоне подобных раскладов парламентская избирательная кампания будет проходить под пристальным оком западных наблюдателей. Госдепартамент США уже заявил, что от итогов выборов зависит судьба снятия санкций. В подобном ключе – только по вопросам кредитования и инвестирования в Беларусь – рассматривают парламентскую кампанию и элиты Европейского союза.
Попытку повлиять на кампанию имели и российские либеральные, а также олигархические круги. 26 января 2016 года в Москве на базе Высшей школы экономики состоялась конференция с привлечением белорусских прозападных экспертов, журналистов и оппозиционных политиков, в том числе и экс-кандидата в президенты Т. Короткевич. Однако данная инициатива не получила своего развития. Это объясняется тем, что после крымских событий произошло сплочение российских элит перед вызовами санкционной политики Запада. Поэтому инициативы некоторых либеральных критиков Лукашенко в России будут купироваться самой российской политической системой.
«Эффект» украинского кризиса ослабевает
В отличие от президентской кампании 2015 г. на решения граждан Беларуси на парламентских выборах украинский кризис будет оказывать меньшее влияние. Мобилизация электората пропрезидентскими кандидатами будет затруднена по двум причинам. Кандидат в депутаты не является харизматичным Александром Лукашенко, и его рейтинг не равен рейтингу главы государства. Во-вторых, сегодня на поверхность вышел длинный список внутриэкономических проблем: увеличение безработицы, уменьшение реального дохода населения, повышение цен. Теперь избиратель будет оценивать кандидата, прежде всего, по его отношению к решению этих насущных экономических проблем.
Конечно, украинские события и дальше предостерегают большинство граждан от радикальных действий. Поэтому сценарий «плошчы-2016» можно считать отброшенным. Однако избиратель не будет голосовать за провластного кандидата только потому, что он не допустит в Беларуси майдана.
Сегодня избиратель требует программы действий по выходу из наметившейся рецессии.
Это было видно уже в президентскую кампанию, когда Александр Лукашенко набрал наименьшее количество голосов в районах Минска с компактным проживанием рабочих заводов. Так, в Заводском районе Президента поддержали только 62,42%, а в Партизанском – 61,85% избирателей, участвовавших в выборах.
По этим цифрам можно судить, что в Минске могут появиться проблемные округа для кандидатов от власти. Это понимают аффилированные с Западом политические структуры. Последние на протяжении 20 лет зависят от заказов западных «доноров». Они сделали ставку на «смотрины» тех «конструктивных» сил, которые смогут включиться в описанную выше программу вовлечения Беларуси в западные структуры.
Новая тактика оппозиции?
Неудивительно, что подготовка к парламентским выборам у оппозиции началась сразу после окончания президентских. 21-22 октября 2015 г. лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич, выступая на съезде правящей в ЕС Европейской народной партии, высказал мнение, что Евросоюзу нужно инвестировать в реформы Беларуси, малый бизнес, права человека, гражданское общество, европейское образование, культуру для формирования национальной идентичности, а также заняться интенсивной работой с молодежью. Вернувшись в Беларусь, Милинкевич вместе с ОГП и оргкомитетом БХД сформировали праволиберальную коалицию, которая намеревается выдвинуть на парламентские выборы 93 кандидата.
Лидеры «Говори правду» экс-кандидат Татьяна Короткевич и политтехнолог Андрей Дмитриев по возвращении из Брюсселя и Вашингтона 28 октября 2015 г. заявили, что будут выдвигать кандидатов по всем 110 избирательным округам.
Партия Сергея Калякина «Справедливый мир» заявила о возможном выдвижении в 60 округах. Наиболее радикальные силы Николая Статкевича намерены на парламентские выборы выдвинуть по разным оценкам 15-20 кандидатов. Отдельным списком в 50 человек пойдут национал-либералы от БНФ. Пока неизвестно, как будет выглядеть избирательный список от социал-демократов и «Зеленых».
В отличие от попыток бойкота выборов 2012 г. сегодня практически все оппозиционные структуры собираются идти на выборы (за исключением последователей Позьняка). Это объясняется заказом «доноров» и потребностями борьбы за финансирование, сохранения своего «места под солнцем».
Также западные «доноры» стремятся увеличить политизированность белорусского общества. Вовлечение как можно большего количества граждан в политический процесс на гребне экономической рецессии, накачка оппозиционных структур новыми кадрами, приток которых возможен только в момент выборов, становится одной из первостепенных задач. Большое количество штабов, кандидатов и прозападных наблюдателей (наблюдать собралась как «Правая коалиция», так и «Говори правду») делает все возможное для этого. Основной проблемой оппозиции является дефицит кадров.
Перспективы же прохождения в белорусский парламент у аффилированных с Западом оппозиционных структур уменьшаются в геометрической прогрессии с увеличением количества их выдвиженцев в округах. Очевидно, наибольшее число оппозиционеров будет баллотироваться в Минске. Именно в Минске сосредоточен и основной оппозиционный электорат. В итоге голоса протеста распределятся между 4-6 оппозиционными кандидатами. Изменения же порядка определения результатов выборов депутатов Палаты представителей, принятые в 2013 г., согласно которым выборы проводятся в один тур, а результаты определяются по принципу относительного большинства, фактически делают возможность победы оппозиционеров на парламентских выборах 2016 года приравненной к нулю.
Патриоты консолидируются и трансформируются
Наибольший интерес в парламентских выборах 2016 г. вызывают не радикальные, аффилированные с Западом политические силы, а другие – патриотические партии и движения как оппозиционного, так и пропрезидентского толка. Можно отметить активизацию деятельности данного сегмента политических сил уже на президентских выборах, когда была апробирована работа штабов КПБ, РОО «Белая Русь», БРСМ и ФПБ в кампании Александра Лукашенко, БПП в кампании кандидата Николая Улаховича и ЛДПБ вокруг своего лидера Сергея Гайдукевича.
По имеющейся информации, ЛДПБ готова выдвинуть 110 кандидатов во всех округах. По окончанию избирательной кампании руководство партии заявило о ребрендинге и желании провести осенью съезд патриотических партий национал-консервативной направленности. В рамках его подготовки 5 апреля 2016 г. руководство ЛДПБ встретилось с Роберто Фиоре, лидером европейского «Альянса за мир и свободу».
КПБ также впервые за долгое время намерена выдвинуть 110 кандидатов во всех округах. В рамках избирательной кампании будет также происходить подготовка к конгрессу «Левых сил», который должен пройти в Минске осенью 2016 г. Некоторые эксперты отмечают, что по итогам конгресса возможно создание новой левой партии, в которую наряду с КПБ могут войти переживающие кризис Аграрная партия, БССП и Республиканская партия труда и справедливости.
Во второй раз в своей истории готова участвовать в парламентской кампании РОО «Белая Русь». Организация хоть и не является политической партией, но не скрывает своих амбиций. На сегодняшний день «Белая Русь» представлена в Палате представителей 67 депутатами и имеет первичную организацию общественного объединения (создание фракций согласно закону в белорусском парламенте запрещено).
Общественному объединению с 2008 г. прочили трансформацию в политическую партию. Однако дискуссии в эшелонах власти в этом направлении стали вестись только с 2011 г. После президентских выборов 2015 г. разговоры о трансформации в партию стали подниматься и внутри организации. Лидер РОО «Белая Русь» Александр Радьков полагает, что решение о судьбе организации должно вызреть к концу 2017 г. Тогда же «Белая Русь» должна будет выработать и свою идеологическую платформу.
В 2012 г. РОО «Белая Русь» впервые поддержала выдвижение своих сторонников на парламентских выборах. Пока неясно по какому принципу будет происходить участие «Белой Руси» в текущей избирательной кампании. Пойдет ли общественное объединение путем прошлых выборов, когда единый список пропрезидентских кандидатов формировался путем согласования между Белой Русью, ФПБ, БРСМ местными и центральными органами власти, или же «Белая Русь» самостоятельно выдвинет 110 кандидатов по всем округам.
«Партийное государство»?
Подобные трансформации в стане патриотических сил свидетельствуют о том, что Белорусское государство, понимая сужение коридора внешнеполитического маневра, а также из-за потребности приспособить свое политическое поле к новым вызовам, пытается реанимировать структуру конструктивных партий с перспективой оформить институты парламентских партий.
Однако перспектива эта является стратегической и на текущую политическую кампанию напрямую не повлияет. Это связано с тем, что в стране сложилась фактическая апартийная система. Из таблицы ниже можно увидеть уровень репрезентативности партий в Палате представителей с 2000 по 2016 гг. постепенно снижался с 15% до 7%.
Оставаться апартийным исключением среди других стран региона и Евразийского союза сегодня очень тяжело.
Поэтому следует постепенно стимулировать работу партий, их участие в общественной жизни. На это и было направлено большинство изменений избирательного законодательства в последние пять лет.
|
|
Палата представителей РБ 2000 - 2004 |
Палата представителей РБ 2004 – 2008 |
Палата представителей РБ 2008 - 2012 |
Палата представителей РБ 2012 - 2016 |
|
Всего депутатов от партий |
17 (15%) |
12 (11%) |
7 (6%) |
8 (7%) |
|
КПБ |
6 |
8 |
6 |
6 |
|
АП |
5 |
3 |
1 |
1 |
|
ЛДПБ |
1 |
1 |
- |
- |
|
ОГП |
2 |
- |
- |
- |
|
РПТС |
2 |
- |
- |
1 |
|
БСДПНГ |
1 |
- |
- |
- |
|
БССП |
1 |
- |
- |
- |
|
Беспартийные |
93 (85%) |
98 (89%) |
103 (94%) |
103 (93%) |
|
РОО «Белая Русь» |
- |
- |
- |
67 (61%) |
|
Всего |
110 |
110 |
110 |
110 |
Можно с уверенностью сказать, что политическая кампания 2016 года будет способствовать долгосрочному укреплению структур патриотических партий для расширения их дальнейшего участия в жизни общества.
После выборов 2016 года в стране может институционально оформиться два политических фланга: левосоциалистический, во главе с КПБ, и правоконсервативный – с ЛДПБ. Возможной партии власти останется занять позицию центра с перспективой совместить риторику социально ориентированного государства с идеей традиционных ценностей. Все патриотические силы имеют шансы увеличить свое представительство в нижней палате парламента по итогам выборов.
АП – Аграрная партия.
БНФ – Белорусский народный фронт.
БПП – Белорусская патриотическая партия.
БРСМ – Белорусский республиканский союз молодежи.
БСДПНГ – Белорусская социал-демократическая партия Народная громада.
БССП – Белорусская социально-спортивная партия.
БХД – оргкомитет по созданию партии Белорусская христианская демократия.
КПБ – Коммунистическая партия Беларуси.
ЛДПБ – Либерально-демократическая партия Беларуси.
ОГП – Объединенная гражданская партия.
РОО «Белая Русь» - Республиканское общественное объединение «Белая Русь».
РПТС – Республиканская партия труда и справедливости.
ФПБ – Федерация профсоюзов Беларуси.
 Ожидает ли Россию и Беларусь новая «газовая война»?
Ожидает ли Россию и Беларусь новая «газовая война»?
11.05.2016
11.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Ожидает ли Россию и Беларусь новая «газовая война»?
Ожидает ли Россию и Беларусь новая «газовая война»?
11.05.2016
11.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
В СМИ вновь раскручивается тема «конфликта» России и Беларуси вокруг поставок энергоресурсов. Тревожные заголовки в прессе относятся к двум совершенно разным историям: первая – о торге России и Беларуси по ценам на газ, вторая – о вопросе с неплатежами. В действительности, создание общего газового рынка России и Беларуси может не только предотвратить дальнейшие споры, но и привести к снижению цен на газ для Минска.
Россия и Беларусь вновь обсуждают вопрос о скидке на газ. К этой теме вернулись, так как стоимость газа для Минска в последнее время понизилась не так существенно, как цены на российский газ для западноевропейских потребителей «Газпрома». Белорусское руководство считает справедливым понижение цен до уровня в $80 за тыс. куб. м. Однако у Минска все меньше рычагов давления на Москву. Таможенных пошлин уже не существует, а «Газпром» – собственник белорусской газотранспортной системы (ГТС).
Белорусскому руководству нужно либо идти на политические уступки и продавать госактивы российским компаниям, либо продвигать идею создания общего газового рынка. Последняя мера позволит прийти в республику российским компаниям «Роснефть» и НОВАТЭК, что повлечет снижение газовых цен.
Из чего складывается цена на газ для Беларуси
С целью обеспечить себя дешевым газом в 2007 г. Минск согласился на большую интеграцию в газовой сфере. Госкомитет по имуществу Белоруссии и «Газпром» 18 мая 2007 г. подписали соглашение купли-продажи 50% акций «Белтрансгаза» (собственник белорусской газотранспортной системы) за $2,5 млрд. В 2011 г. «Газпром» выкупил оставшиеся 50% акций «Белтрансгаза» (позже был переименован в «Газпром трансгаз Беларусь») и стал единственным собственником компании. Продажа ГТС «Газпрому» позволили Беларуси получить льготные цены на российский газ.
«Газпром» и «Белтрансгаз» 25 ноября 2011 г. подписали новые контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики в 2012–2014 гг.
Сегодня «Газпром» поставляет в Беларусь газ по самой низкой цене по сравнению с другими странами.

Источник: Белстат.
При перезаключении контрактов в 2014 г. ситуация сохранилась. В новых контрактах принципиально изменилась формула ценообразования, что позволило с 2012 г. снизить цену сразу на $100 на каждую тыс. куб. м. В 2010 г. Россия, Беларусь и Казахстан создали Таможенный союз, поэтому определение цены газа привязали к стоимости «голубого топлива» на внутрироссийском рынке.
Основными параметрами в формуле стали цена на газ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), стоимость транспортировки газа от мест добычи до границы России и Беларуси, стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Эти параметры были официально заявлены «Газпромом» в момент подписания соглашения, но конкретика – это коммерческая тайна. Стоимость газа для потребителей ЯНАО в начале 2016 г. составляет 2395 руб. за тыс. куб. м. При курсе в 66 руб. за доллар это эквивалентно 36,3 долларам США.
Таким образом, существенный вклад в цену на газ для Белоруссии вносит стоимость транспортировки газа в республику.
Причем «Газпром» рассчитывает эту величину в долларах, не используя официальные тарифы на транспортировку по ГТС России, устанавливаемые ФАС РФ. Тариф на транспортировку (в 2013 г. составлял 2,7 доллара за 1 тыс. куб. м. на 100 км. при расстоянии 3262 км.), стоимость хранения газа ($6,2 за тыс. куб. м. в 2013 г.), маркетинговые затраты ($1 за тыс. куб. м. в 2013 г.) рассчитываются в долларах, а не в рублях.
Как Минску сбить цену на российский газ?
До недавнего резкого падения мировых цен на нефть Беларуси была выгодна нынешняя формула цены, так как позволяла получать газ по стоимости намного ниже, чем при использовании привязки к нефтяным котировкам. При дешевой нефти оказалось, что цена на газ для Беларуси приблизилась к стоимости российского топлива для Германии (около $170) минус таможенная пошлина. Поэтому премьер РБ Андрей Кобяков заявил о необходимости предоставления его стране скидки на газ. Фактически он предлагает провести еще большую интеграцию газовых рынков России и Беларуси. В частности, глава кабинета министров заявил, что цену нужно понизить на тот же процент, на который упал российский рубль по отношению к доллару. Это позволит снизить стоимость газа до $80 за тыс. куб. м.

Источник: Белстат.
Переговорные позиции Минска не столь сильны как прежде. Ранее в обмен на скидки «Газпром» получал доли в белорусской ГТС, но теперь потенциал данного инструмента исчерпан.
Россия не сможет сделать скидку Беларуси на «украинских условиях», т.е. за счет обнуления или снижения экспортной пошлины. Ведь пошлины и так уже не существует.
Белорусское руководство может пойти тремя путями. Первый предусматривает политические уступки Минска в отношениях с Москвой. Например, официальное и твердое признание присоединение Крыма к России, признание независимости Абхазии и Южной Осетии и т.д. Ясно, что это может повлечь ужесточение западных санкций.
Второй сценарий предусматривает продажу российским компаниям белорусских активов. Данный вопрос обсуждается давно. Однако белорусское руководство в целом настороженно относится к данной идее.
Третий вариант предусматривает дальнейшую интеграцию российского и белорусского рынков. Минску необходимо добиться фактического признания белорусской территории внутренним газовым рынком РФ. В этом случае поставки газа в республику не будут считаться экспортом.
На пути к общему рынку газа
Сторонниками данной реформы станут НОВАТЭК и «Роснефть», стремящиеся разрушить экспортную монополию «Газпрома». Для них приход в Беларусь станет очередным шагом к реализации «антигазопромовской» мечты. Однако при существующем регулировании газового рынка РФ независимые производители не смогут составить конкуренцию «Газпрому» на белорусском рынке. Проблема в том, что тарифы на прокачку газа и тарифы на хранение газа для «дочек» «Газпрома» ниже, чем для независимых производителей.
Поэтому НОВАТЭКу и «Роснефти» просто невыгодно поставлять газ в отдаленные от районов добычи регионы. Но ситуация может вскоре измениться. После заседания комиссии по ТЭК при президенте России в октябре 2015 г. Минэнерго было поручено разработать Концепцию развития внутреннего рынка газа. Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявил, что к 1 июня документ будет внесен на обсуждение в правительство РФ.
Требования НОВАТЭК и «Роснефти» по выравниванию тарифов на прокачку и хранения газа могут быть внесены в Концепцию. Однако в документ может войти и требование «Газпрома» дать ему право предоставлять потребителям скидку к уровню официально установленных тарифов. Сейчас концерн не может конкурировать с независимыми производителями, так как ему запрещено снижать цены на газ.
Для Беларуси целесообразно лоббировать дальнейшую интеграцию своего газового рынка с российским, что позволит выровнять цены с внутрироссийскими. Однако «Газпром» в этих условиях потеряет часть экспортной прибыли. Почва для компромисса может быть найдена на основе соглашения о разделе рисков неплатежей.
Так, недавно «Газпром трансгаз Беларусь» подал в Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате (БелТПП) иск к госпредприятиям республики в связи с задолженностью по оплате за поставленный природный газ. Схожие проблемы есть и в России. По мере ухудшения экономического положения в наших странах объем неплатежей растет. В 2015 г. в России этот показатель вырос на 19,8% - до 152,1 млрд. руб. Поэтому иск к белорусским потребителем не является политическим шагом, это стандартная практика коммерческой деятельности. А решение о разделе рисков неплатежей.
Таким образом, не стоит воспринимать нынешние события в российско-белорусских газовых отношениях как новый конфликт. Стороны расходятся во мнениях по вопросу цены, но в итоге компромисс будет найден.
Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ
 Карабахский кризис – вызов, но не приговор евразийской интеграции
Карабахский кризис – вызов, но не приговор евразийской интеграции
10.05.2016
10.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Карабахский кризис – вызов, но не приговор евразийской интеграции
Карабахский кризис – вызов, но не приговор евразийской интеграции
10.05.2016
10.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Недавняя эскалация конфликта в Нагорном Карабахе вызвала критику в отношении институтов безопасности на постсоветском пространстве и идей евразийской интеграции в целом. Вместе с тем, проблемы дают ценный материал для работы над ошибками. "Евразия.Эксперт" продолжает дискуссию об ОДКБ и наднациональных инститах на евразийской пространстве в контексте карабахского кризиса. Ранее уже были опубликованы статьи экспертов из Беларуси и Армении - Алексея Дзерманта и Сергея Минасяна. Российский политолог Максим Сучков изложил в своей статье взгляд на ситуацию из России.
В лабиринте «постсоветских пространств»
Наиболее выпукло кризис на Кавказе показал важную особенность евразийского проекта – институты безопасности и интеграционные объединения на постсоветском пространстве во многом зиждутся на волевом решении Москвы инвестировать в них политическую волю и экономические ресурсы. Поэтому когда Россия сталкивается с непростыми дилеммами – как это случилось в карабахской эскалации – и распоряжается этой волей и ресурсами иначе чем, по мнению некоторых наблюдателей, должна это делать, в поведении Москвы усматривают «отклонения» от линии на укреплении интеграции.
Понятны и претензии к другим членам ЕАЭС и ОДКБ, прежде всего, Беларуси и Казахстану. Их фактические позиции были интерпретированы в Ереване в лучшем случае как «недружественные», в худшем – как «проазербайджанские», а потому «анти-союзнические». Действительно, найти основания для расценивания их как идущих вразрез если не с буквой, то с духом ОДКБ, было можно. Похожая критика, смешанная с призывами к большей если не военной, то политической солидарности, звучала ранее и в некоторых российских политико-экспертных кругах после войны в Южной Осетии в 2008 г. и на протяжении всего украинского кризиса.
Нельзя сказать, что эта критика безосновательна, поскольку, большей частью, основана на легитимных ожиданиях. Однако предлагаемые рецепты граничат с популярной максимой Марка Твена, когда вместе с грязной водой есть риск выплеснуть и ребенка.
Дело здесь не столько в отсутствии механизмов координации позиций членов ОДКБ и ЕАЭС, сколько в разновекторности их интересов, о чем говорить открыто не всегда удобно. В этом смысле, справедливо говорить о «постсоветских пространствах», где у отдельных государств за четверть века независимого существования выработался собственный набор представлений о внешнеполитических приоритетах. Все это по отдельным вопросам может разительно отличаться от императивов единого интеграционного проекта или того, каким он представляется России. Понимать это важно не только Москве, но и самим действительным или потенциальным членам евразийской интеграции. Это не означает, однако, что следует отказаться от углубления интеграции.
Мировой кризис антикризисного управления
Вопрос сопряжения собственных государственных интересов и интересов интеграционного объединения не уникален для евразийского проекта. В кризисные периоды эти расхождения выявляются с большей силой, чем во времена относительного благоденствия. Пример Евросоюза как долгие годы наиболее успешного интеграционного объединения тому подтверждение. Критика идеи солидарности как залога евразийской интеграции, которая посыпалась даже со стороны некоторых ее вчерашних сторонников, справедлива ко всем интеграционным объединениям. Равно как и та критика, которая, как правило, направлена на главное интеграционное ядро – Германию в ЕС, Россию в ЕАЭС.
Это же относится и к критике главного постсоветского института безопасности – ОДКБ. Признаки перехода конфликта из тлеющего состояния, в котором он находился почти четверть века, к пожару имелись как минимум на протяжении последних трех лет. Можно говорить о недостаточном давлении внешних игроков на конфликтующие стороны, чтобы это предотвратить, хотя отрицать внутреннюю динамику конфликта и ответственность самих сторон также было бы лукавством. Неспособность эффективно проявить себя в данном конфликте именно ОДКБ как институту является проявлением его дисфункции в той же мере, в которой хромают все международные механизмы кризисного регулирования и управления – схожая критика звучит в отношении деятельности ОБСЕ на юго-востоке Украины, многочисленных миссий ООН в Африке и пр. Кроме того, это обращает нас к более широкой дискуссии о том, какие критерии деятельности организации должны считаться индикаторами его эффективности.
Популярная ныне альтернатива в отношении карабахского урегулирования – переформатирование представительского формата с целью расширения переговорного пространства в виде подключении к этому процессу Турции и Ирана – также вряд ли несет в себе ключ к разрешению конфликта.
Репрезентативность состава участников автоматически не гарантирует конструктивных решений, но нередко может препятствовать их выработке. Вряд ли кто-то сегодня с уверенностью скажет, что созидательный потенциал Анкары и Тегерана будет превалировать над их собственными интересами в этом конфликте, продвижение которых способно еще больше нарушить хрупкий статус-кво.
Трезвый интеграционный расчет
Чаяния и ожидания государств-членов евразийских институтов в отношении России и друг друга в корне своем понятны и справедливы. Но подлинное партнерство предполагает и уважение к интересам самой России – логика некоторых комментаторов и политических заявлений порой как будто предполагает их отсутствие. Трезвая оценка российской позиции и интересов, а также себя и собственных возможностей – минимальный набор исходных для результативной интеграции. Экономические успехи и внешняя привлекательность не должны кружить голову. Конъюнктура может измениться, а восстановить поврежденные отношения будет непросто.
Различия в позициях не должны становиться тормозом для сотрудничества на других направлениях. Постсоветские конфликты – один из наиболее серьезных вызовов региональной интеграции и построению общего пространства безопасности, но говорить о том, что это лакмусовая бумажка эффективности этих институтов на данном этапе, представляется преждевременным.
Тем более что евразийская повестка ими не исчерпывается и примеров успешного сотрудничества больше, хотя они, как правило, и реже попадают в фокус внимания обывателя.
Нет ничего удивительного в том, что именно в такие кризисные периоды обостряются дискуссии о причинах вступления того или иного государства в институты безопасности или экономической интеграции, пересматриваются альтернативы, анализируются риски потенциальной смены стратегического курса. И именно в эти периоды возрастает ответственность и запрос на лидерство со стороны «главного интегрирующего».
России, действительно, следует внимательне относиться к своим действиям, просчитывать, как те или иные внешнеполитические акции могут быть восприняты в странах ЕАЭС и ОДКБ. Это касается и поставок вооружений и отдельных политических решений в вопросах экономического сотрудничества, торговых практик и инвестиций.
Полагаться на «инерцию исторического добрососедства» в мире с иными ценностными ориентирами рискованно.
Это безусловный ресурс, но вряд ли на него можно опираться, когда к власти в постсоветских республиках будет приходить все больше молодых элит, не имеющих советского опыта и ассоциирующих его – зачастую, без должного критического осмысления – с негативными образами западных нарративов.
Институтам ЕАЭС и ОДКБ важно пережить эмоциально-оправданный, но политически близорукий период «фатальной предопределенности неудачей», а ее членам вынести из него правильные уроки и кропотливо проделать работу над ошибками.
 Почему Германия напала на СССР и проиграла. <i>5 тезисов главы секретной разведки Третьего рейха</i>
Почему Германия напала на СССР и проиграла. <i>5 тезисов главы секретной разведки Третьего рейха</i>
09.05.2016
09.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Почему Германия напала на СССР и проиграла. <i>5 тезисов главы секретной разведки Третьего рейха</i>
Почему Германия напала на СССР и проиграла. <i>5 тезисов главы секретной разведки Третьего рейха</i>
09.05.2016
09.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Решение о нападении гитлеровской Германии на СССР было продиктовано не только одержимостью фюрера, но и системными просчетами в его окружении. Как нельзя лучше об этом написал в своих мемуарах глава тайной разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг. Главный разведчик не только избежал высшей меры, но и вышел из тюрьмы уже в 1950 г. С молчаливого согласия Гиммлера Шелленберг начал налаживать каналы для сепаратных переговоров еще в 1942 г. В мемуарах Шелленберга приводятся оценки ситуации начальника управления имперской безопасности Гейдриха, начальника военной разведки Канариса и начальника тайной государственной полиции Мюллера.
1.
О недооценке военного и промышленного потенциала СССР
«Мы оба [Шелленбер и Канарис] считали, что точка зрения генерального штаба, согласно которой мы сможем благодаря нашему военному и техническому превосходству победоносно завершить восточный поход в течение нескольких недель, была очень поверхностной. Однако мы расходились в оценке производственных и транспортных возможностей России.
…я считал, что объем производства танков в России должен намного превосходить данные Канариса, да и в области конструктивных характеристик танков от русских следует ожидать больших сюрпризов. Я основывал эти предложения на высказываниях членов советской военной делегации, посетившей Германию в марте 1941 г. Гитлер тогда приказал: чтобы произвести на русских хорошее впечатление, показать делегации не только наши современные танковые школы, но и раскрыть перед ними секретные предписания и директивы. После осмотра русские сомневались, что мы показали им все, и говорили, что, вопреки приказу Гитлера, кое-что от них утаили. Отсюда я сделал вывод, — они считали продемонстрированные нами модели не принадлежавшими к последнему слову техники, сравнивая их со своими собственными танками. У нас же тогда, на самом деле, не было ничего лучшего; а русские уже в 1941 году могли в массовом порядке применить в бою танк Т-34, превосходивший по своим характеристикам наши танки.
Канарис также утверждал, что у него есть безупречные документы, согласно которым Москва, являющаяся крупным индустриальным центром, связана с Уралом, богатым сырьевыми ресурсами, всего лишь одной одноколейной железной дорогой. На основе имевшихся в нашем распоряжении сообщений я придерживался противоположного взгляда. Один лишь этот пример показывает, насколько трудно было военному командованию, в результате дублирования в работе наших разведывательных служб, правильно оценивать эту противоречивую информацию при составлении своих оперативных планов».
2.
О причинах нападения на СССР
«Гитлер… всеми средствами форсировал строительство подводного флота; он намеревается, по словам Гейдриха, сделать его настолько мощным, чтобы отпугнуть США от активного вступления в войну. Даже в случае участия в войне Соединенных Штатов нет оснований ожидать вторжения на европейский материк раньше, чем через полтора года. Этого времени казалось Гитлеру достаточно для нападения на Россию, не подвергаясь опасности войны на два фронта. Если это время не использовать, считал Гитлер, Германия окажется зажатой между двух врагов – союзников, угрожающих вторжением, и Россией, усилившейся настолько, что вряд ли мы сможем отразить удар с Востока.
Пока еще мощь нашего вермахта достаточна, чтобы нанести поражение России во время этой передышки. Столкновение с Советским Союзом, по мнению Гитлера, рано или поздно неизбежно, так как этого требует безопасность Европы. Поэтому было бы лучше предотвратить эту опасность, пока мы чувствуем себя вправе полагаться на собственные силы».
3.
О сомнениях Гитлера
«Генеральный штаб уверяет, что благодаря фактору внезапности кампания сможет быть победоносно завершена к рождеству 1941 г. Однако Гитлер, по словам Гейдриха, полностью осознает всю тяжесть и далеко идущие последствия своего решения, поэтому он хочет использовать любые средства для достижения успеха.
…Канарис, в свою очередь, во время наших утренних прогулок верхом без всяких околичностей ругал высшее командование вермахта – по его мнению, было непростительным легкомыслием утверждать такого человека, как Гитлер, с помощью профессиональных аргументов в мысли о том, что русский поход можно совершить за несколько месяцев. Он не может разделять такого поверхностного оптимизма».
4.
О сепаратных переговорах с Великобританией
«В конце лета 1942 г. я впервые попытался установить связи с Западом. Необходимо было осторожно прозондировать через английского генерального консула Кейбла, находящегося в Цюрихе, возможность скорейшего окончания войны. При этом я надеялся, что м-р Кейбл сможет довести об этом до сведения Черчилля. Однако трудность состояла в том, чтобы устранить подозрения англичан в том, что мы – как и в деле Венло – ведем «игру». Кейбл, насколько я мог думать, был хорошо проинформирован о моей позиции и обо мне лично, и высказал готовность начать предварительные переговоры с уполномоченным представителем немецкой стороны. Позднее он сообщил мне, что получил от Черчилля полномочия на ведение таких неофициальных переговоров. Он был даже готов ради переговоров на уровне руководителей разведок отправиться, с соблюдением известных гарантий, в Германию.
5.
Мюллер о причинах поражения Германии
В начале 1943 г., когда в Берлине-Ваннзее, проходила конференция всех наших полицейских атташе, работавших за границей, Мюллер неожиданно предложил мне побеседовать с ним.
[Мюллер сказал:] «Я вот думаю о некоторых людях из „Красной капеллы“ (название, данное в органах безопасности гитлеровской Германии антифашистской разведывательной сети в странах Западной Европы - прим. ред.) – о Шульце-Бойзене или Харнаке. Они… не цеплялись за полумеры, а были настоящими прогрессивными революционерами, которые всегда искали окончательных решений и оставались верны своим убеждениям до самой смерти. Того, к чему они стремились, национал-социализм, склонный к различного рода компромиссам, просто не мог им дать, в отличие от идеологии коммунизма. Национал-социализм не смог переделать высшие слои нашей интеллигенции, проникнутой туманными и неясными идеями, и вот в этот-то вакуум и устремляется теперь коммунистический Восток. Если мы проиграем войну – причиной нашего поражения будет не столько военная мощь русских, сколько духовные возможности руководящей прослойки нашего общества. И дело тут не в самом Гитлере, а в тех, кто окружает его. Если бы фюрер с 1933 по 1938 гг. прислушивался ко мне, он бы, прежде всего, провел основательную и беспощадную чистку своего аппарата и не позволял бы командованию вермахта дурачить себя».
Я уже собрался уходить, когда Мюллер снова заговорил: «Я не вижу для себя выхода, но все больше склоняюсь к убеждению, что Сталин стоит на правильном пути. Он неизмеримо превосходит западных государственных деятелей, и если уж говорить начистоту, нам следовало бы как можно скорее пойти с ним на компромисс. Это был бы такой удар, от которого Запад с его проклятым притворством уже не оправился бы!»
Пожалуй, более ясно он не мог выразиться. Я прервал разговор и простился, но у меня из головы не выходил этот странный монолог Мюллера. Теперь мне было ясно, что Мюллер полностью изменил взгляды и больше не думает о победе Германии».
Источник: Шелленберг В. Мемуары. Перевод с немецкого. М.: Прометей, 1991. 352 с.
 Ультиматум Нуланд: как слово Вашингтона в Киеве отзовется
Ультиматум Нуланд: как слово Вашингтона в Киеве отзовется
06.05.2016
06.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Ультиматум Нуланд: как слово Вашингтона в Киеве отзовется
Ультиматум Нуланд: как слово Вашингтона в Киеве отзовется
06.05.2016
06.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
На прошлой неделе помощник госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Киев и поставила де-факто ультиматум украинским властям, потребовав в кротчайшие сроки внести изменения в украинскую конституцию («особый статус» Донбасса), обеспечить проведение выборов в самопровозглашенных республиках и амнистию. С чем связана такая настойчивость Нуланд? Предлагаем вниманию читателей «Евразия.Эксперт» системный взгляд изнутри на расклад сил внутри Украины. Есть ли шанс реализовать "Минск-2" в политических реалиях современной Украины?
Киев и Минские соглашения: в ожидании нового Рейгана?
Слова Нуланд о как можно скорейшей развязке конфликта на Донбассе украинский политикум встретил с настороженностью и негодованием. Практически для всех видных политических сил страны это – серьезное испытание.
Президент Порошенко, как и его фракция в парламенте, в целом не против имплементации Минских соглашений. Она представляет более умеренную политическую силу, чем, например, более негативно настроенный «Народный фронт». Хотя США имеют влияние на «триумвират» во главе этого блока – спикера Рады Андрея Парубия, секретаря СНБО Владимира Турчинова и бывшего премьера Арсения Яценюка – это отнюдь не означает, что Вашингтон сможет их подтолкнуть к определенным действиям. Ведь находиться «под влиянием США» не то же самое, что прислушиваться к рекомендациям демократической администрации в Вашингтоне. Проамериканские силы в Украине сегодня скорее ждут восшествия «на престол» в Вашингтоне нового Рейгана, чем решительных действий уходящего Обамы.
Для реализации «Минска-2» необходим минимум 300 голосов в Верховной Раде Украины, чтобы внести необходимые правки в конституцию Украины и дать стране реальный шанс на стабилизацию ситуации на Донбассе.
Совсем не обязательно детально изучать общественно-политическую жизнь в Украине и быть в курсе всех событий, чтобы понять: набрать необходимое число голосов парламентариев для Порошенко более чем утопично. Во-первых, еще в условиях формального существования парламентской коалиции в августе 2015 г. со скрипом удалось набрать необходимые голоса, чтобы запустить реализацию Минских соглашений в первом чтении.
Во-вторых, коалиция в Верховной Раде сейчас де-факто не существует. Порошенко после «катапультирования» Владимира Гройсмана из кресла спикера парламента в премьеры потерял значительную часть контроля над Верховной Радой.
Едва ли стоит рассчитывать, что приверженец «партии войны», новый председатель парламента Парубий, согласится на конструктивную работу в русле имплементации Минских соглашений.
Теоретический шанс на реализацию «Минска-2»
Отдельно стоит проанализировать возможную реакцию на заявления Нуланд украинских националистов и прозападных сил центристского и правоцентристского толка. Эти два лагеря относятся в целом негативно к «Минску-2». Однако при определенных раскладах ориентированные на США и ЕС украинские демократы могут смягчиться, чего не скажешь о радикалах.
В рядах умеренных противников реализации Минских соглашений стоит отметить такие партии как «Самопомощь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко и упомянутый «Народный фронт». Руководство этих сил понимает, что если и на сей раз Киев проигнорирует призыв Запада и не имплементирует Минск-2, более чем реальной станет возможность проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. Тем более что и без этого предпосылок для роспуска парламента предостаточно.
Здесь включается элементарная логика, которая заставляет лидеров прозападных партий задуматься о своем политическом будущем. Поскольку внеочередные выборы оставят «Народный фронт» вне парламента, «Самопомощь» если и умножит свое представительство в Раде, то несущественно. Но может и утратить позиции, ведь после унизительного фиаско в Кривом Роге рейтинг партии существенно замедлил рост. А согласно отдельным соцопросам, медленно пошел на спад.
Точно выиграет от внеочередных выборов в Раду «Батькивщина» и ее лидер Тимошенко. Политик может получить реальный шанс возврата на властный олимп Украины. Учитывая присущий Юлии Владимировне популизм и умение быстро приспосабливаться к новым политическим реалиям, можно с высокой вероятностью предположить, что она с легкостью может изменить свою бескомпромиссную в отношении Минских соглашений риторику на уступчивую и умеренную.
Из-за страха оказаться на обочине большой украинской политики ряд нынешних парламентских партий если не в полном составе, то в большинстве скрепя сердце могут поддержать необходимые для реализации «Минска-2» изменения в конституцию. Возможно, для этого даже не потребуется присутствия Нуланд и посла США на Украине Дж. Пайетта, как это было в августе 2015 г.
Фактор «свободных радикалов»
На кого не повлияет даже личное присутствие Барака Обамы в Верховной Раде, так это на украинских радикалов. Речь идет не только об одноименной партии известного популиста Олега Ляшко и немногочисленных внефракционных депутатах-националистах. Следует упомянуть партии «Свобода», «Правый сектор», некоторые другие националистические организации. Хотя они не имеют фракций в парламенте, но, тем не менее, не утратили окончательно своего влияния на украинскую политику.
Отдельно следует выделить «военно-политические» организации, существование которых стало возможным как раз в связи с войной на Донбассе. Это и полк «Азов» с его гражданским корпусом, и еще несколько добровольческих батальонов, которые до сих пор входят в МВД или Национальную гвардию только де-юре.
Нельзя сказать, что украинские официальные власти совсем не имеют влияния на вооруженных радикалов. Скорее, это влияние не афишируется и самими властными структурами, и военизированными радикалами. Несмотря на случающиеся громкие заявления националистических батальонов о самостоятельности, их руководство прекрасно осознает, что без финансовой и материальной поддержки властей они рискуют опять оказаться уличными маргиналами. Правда, и власти понимают, что ограничить влияние правых будет не так просто. Получается своеобразный замкнутый круг. Власть боится самовольных действий вооруженных до зубов радикалов, а радикалы осознают зависимость от властей.
Кроме этого, пока не окончена «антитеррористическая операция» и сохраняется замороженный конфликт на Донбассе, украинские власти могут использовать их как своеобразный заслон от радикалов. Если же обстоятельства будут складываться в пользу развязки донбасского кризиса, тогда вооруженные националисты останутся без работы.
Перед украинской властью стоит решение сложной головоломки – как довести до логического завершения «Минск-2» и как затем «трудоустроить» добровольческие батальоны?
Что касается политических партий правого толка – «Свободы», Радикальной партии, то они, даже занимаясь чисто политической деятельностью, представляют не меньшую проблему для властей, чем батальоны. С угасанием популярности «Народного фронта» вышеупомянутые партии начинают отвоевывать электоральные позиции и могут пройти в парламент на возможных внеочередных выборах.
Усталость от анархизма
Фраза «где два украинца, там три гетмана» – максимально точно отображает всю суть украинской политики и власть имущих. Ведь анархизм присущ всем без исключения властным элитам Украины и проводить плодотворный диалог с ними по любым вопросам не получалось в разные годы ни у России, ни у Евросоюза. Не получается сегодня и у США. Поэтому, уставшие от украинского политического балагана лидеры мировой политики хотят как можно быстрее разрешить донбасский, а точнее сказать украинский кризис. Естественно, с соблюдением своих интересов.
Вполне очевидно, что Украину все же ждет выполнение «Минска-2» – если не через парламентские процедуры, то через давление извне. Тем более вспомним, что Нуланд намекнула Украине на очередной транш от МФВ и дальнейшую финансовую поддержку США в случае реальных шагов в сторону имплементации Минских соглашений. А это жизненно необходимо для Порошенко и его команды. Ведь это чуть ли не единственный шанс спасти от окончательного упадка экономику страны и удержаться у власти.
 Новая индустриализация как фигура речи
Новая индустриализация как фигура речи
05.05.2016
05.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Новая индустриализация как фигура речи
Новая индустриализация как фигура речи
05.05.2016
05.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
Что необходимо делать, чтобы дискуссии о новой индустриализации в ЕАЭС не превратились в «белый шум»? Для союзнических отношений России и Беларуси важно, чтобы инициатива по проработке этих сложных вопросов принадлежала обеим сторонам.
Индустриализация и ее враги
Раздаются призывы к новой индустриализации в странах Евразийского экономического союза. Это правильно – без технологического развития нет перспектив и хорошо, что сегодня эта тема востребована. Но есть один нюанс. Крайне мало внимания в общественно-политической и экспертной дискуссии уделяется конкретному анализу и сопоставлению путей и методов желанного скачка к высокотехнологичному «раю».
Некоторые эксперты, подчас далекие от экономики и производства в любой его ипостаси, изображают дело так, что чуть ли не единственное препятствие на пути рывка ЕАЭС в светлое будущее – это паразитарный класс олигархов. Каково реальное влияние олигархов, что с ними делать, зачем и кем их заменить - эти неудобные вопросы, как правило, остаются в стороне. Естественно, ответственность в этой картине реальности обычно возлагается на Россию и некое «сырьевое проклятье». Надо признать, подобная логика нередко встречается не только в левой российской оппозиции, но и в экспертном поле Беларуси.
Но, не превращаясь в конкретные аналитические «продукты» - оценки, проекты и предложения – заклинания о «новой индустриализации» постепенно превращаются в «белый шум», сливаясь с общим звуковым фоном. В результате достигается противоположный результат – идеи индустриального развития выхолащиваются и дискредитируются.
Тяжелая промышленность: сносить нельзя оставить
Приверженность идеям индустриализации, распространенная среди белорусских экспертов, заслуживает уважения. За этими идеями стоят не только идеалы, но прагматичные интересы. Беларуси удалось сохранить тяжелую промышленность, что является аномалией на фоне сервисного перепрофилирования большинства экономик в Восточной Европе. Около 70% ВВП республики обеспечивается сегодня крупными государственными предприятиями.
Объявлять ресурс крупной промышленности, как делают некоторые представители белорусской оппозиции, грудой неэффективного «металлолома» или «ржавым придатком» России – все равно, что играть в поддавки в международной конкуренции, предлагая себя как трофей. Тем более, что утилизация крупных производств, цементирующих социальную структуру Беларуси и уровень урбанизации, практически неизбежно приведет к растаскиванию государства и разгулу ультранационалистов по хорошо знакомым сценариям.
Поэтому правящий класс Беларуси сегодня ведет игру за сохранение и модернизацию промышленного потенциала республики. Ставка в этой игре–благосостояние белорусского государства. Сохранение крупной белорусской промышленности – в стратегических интересах России, так как она входит в единый инфраструктурный и хозяйственный комплекс постсоветского пространства и создает естественный заслон на пути местечкового национализма в Беларуси.
Со звезд – на землю и обратно
Белорусские эксперты часто напоминают, что Евразийский экономический союз – не жилец без масштабной программы реиндустриализации. Трудно возражать. Но есть старый как мир вопрос – что именно делать? Даже у авторов западных учебников, которые, казалось, должны ведать все, хватает смелости признать, как мало мы осведомлены о реальных причинах и механизмах экономического возвышения тех или иных стран.
Как подчеркивает российский экономист Александр Аузан, за 200 лет наблюдения за мировой экономикой лишь пяти странам удалось совершить скачок в капиталистическом развитии из «третьей лиги» в «первую». Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. И никто до сих пор точно не знает, как им это удалось. Впрочем, известно, что поступали они нередко вопреки рецептам западных учителей демократии и рынка (например, в вопросах клановости, которая во многом положена в основу экономической модели в странах Азии).
Это говорит об одном: высокие лозунги и едкие упреки надо подкрепить прикладной аналитической работой «на земле». Как минимум, для экспертной обкатки и сопоставления нескольких сценариев индустриального «ренессанса» в ЕАЭС. Только через эту «увязку» можно вновь подняться «к звездам» – выйти на предметное обсуждение целей и миссии евразийской интеграции. С точки зрения союзнических отношений России и Беларуси, важно, чтобы инициатива по изучению этих сложных вопросов принадлежала обеим сторонам.
Критикуешь – предлагай
Устраивая вербальные порки «российской олигархии» легко потерять из виду не только реальные изменения, произошедшие в России за последние годы, но и запутаться в оценке рисков и выгод самой индустриализации. Так, потратить российские фонды, лежащие за океаном, большого ума не надо. Что после этого останется – другой вопрос. Учитывая непредсказуемость колебаний мировой экономики, надо тщательно взвешивать риски «проедания» финансовой «подушки безопасности», которой не брезгуют все развивающиеся страны, а больше всего долларов покупает Китай.
Самым активным сторонникам новой индустриализации из экспертного сообщества России и Беларуси стоило бы заняться подробным изучением ее моделей, ресурсов, инструментов. Провести серию обстоятельных дискуссий. Предложить обществу варианты, взвесив плюсы и минусы каждого из них, посмотрев на исторические аналоги.
Неконструктивно, когда место рациональных предложений занимают острые на язык упреки. Белорусскому и российскому экспертным сообществам пора переходить в новый режим общения – более активный, деловой и предметный. Впрочем, если у кого-то нет пока готовности к такой работе, то можно продолжать придумывать эпитеты российской «олигархической системе», посылая «сигналы» воображаемому собеседнику.
Вячеслав Сутырин
 Есть ли общее будущее у Беларуси и Армении в ОДКБ?
Есть ли общее будущее у Беларуси и Армении в ОДКБ?
05.05.2016
05.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
Есть ли общее будущее у Беларуси и Армении в ОДКБ?
Есть ли общее будущее у Беларуси и Армении в ОДКБ?
05.05.2016
05.05.2016
eurasia.expert
https://eurasia.expert/
 eurasia.expert
info@eurasia.expert
eurasia.expert
info@eurasia.expert
«Четырехдневная война» начала апреля 2016 г., разгоревшаяся в Нагорном Карабахе, наряду со многими другими проблемами регионального характера, высветила также серьезный кризис форматов военно-политического сотрудничества и двусторонних межгосударственных отношений на постсоветском пространстве. В частности, это наглядно проявилось на примере ОДКБ, отсутствие ожидаемой реакции которой на события вокруг Нагорного Карабаха (за исключением достаточно расплывчатого, хотя и указывающего на Азербайджан как инициатора новой эскалации, заявления генсека ОДКБ Бордюжи) вызвало разочарование официального Еревана. Не меньшее недовольство непосредственно в ходе эскалации и последующих действий в Армении вызвала и позиция отдельных стран-членов ОДКБ.
В частности, в ходе апрельской эскалации состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и Азербайджана, в ходе которого Лукашенко, согласно сведениям азербайджанских СМИ, поддержал действия официального Баку. После того, как уже армянской стороной был вызван в МИД Армении для разъяснений посол Беларуси, белорусская сторона выступила с более корректным и нейтральным заявлением.
Военная доктрина Беларуси вызывает беспокойство
Тем не менее вполне естественно, что с учетом членства Армении в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе, Ереван был склонен ожидать, что Беларусь, как и все остальные члены ОДКБ и ЕАЭС, окажет более явственное содействие, в том числе – военно-политического свойства. Поэтому непосредственно после некоторого снижения военной активности на карабахском направлении официальный Ереван попытался обратить внимание на некоторые проблемы, которые могли бы сказаться на способности его союзников по ОДКБ выполнять взятые себя союзнические обязательства. В частности, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян 15 апреля 2016 г. выразил беспокойство положениями принятой Беларусью новой военной доктрины, запрещающей участие белорусской армии в военных операциях за пределами страны.
Подтекст озабоченности МИД Армении вполне понятен, поскольку новая белорусская военная доктрина фактически исключает даже теоретическую возможность участия вооруженных сил этой страны в случае необходимости в оказании действенной военной помощи армянской стороне, которая подразумевается согласно положениям и обязательствам ОДКБ по взаимной обороне и безопасности.
Армения – фактически единственное государство ОДКБ, на данный момент сталкивающееся с реальной угрозой прямого вовлечения в межгосударственный военный конфликт, и приоритеты которого в сфере национальной безопасности укладываются в рамки «классических» задач традиционного военно-политического союза. Поэтому Ереван рассматривает эту структуру как военно-политический ресурс в контексте главной политической проблемы постсоветского развития страны – карабахского конфликта. Поэтому все свои отношения в рамках ОДКБ и в многостороннем и двустороннем форматах Армения рассматривает именно с учетом карабахского фактора.
С учетом того обстоятельства, что Армения в соответствии с Конституцией РА, Стратегией национальной безопасности и другими концептуальными документами официально выступает гарантом безопасности народа Нагорного Карабаха, вышеуказанные факторы создают ситуацию, при которой широкомасштабная активизация боевых действий вокруг Нагорного Карабаха рано или поздно может привести к их распространению и на международно признанную территорию Республики Армения.
Это автоматически приведет к необходимости оказания помощи членами ОДКБ своему союзнику в соответствии с положениями статей 4-й и 6-й Договора о коллективной безопасности (ДКБ) от 15 мая 1992 г. Однозначно возникает ситуация casus foederis – необходимости вступления в силу обязательств по коллективной самообороне, что соответствует статье 51-й Устава ООН. Устав ОДКБ (статья 3-я) также позиционирует ее как организацию, ответственную за международную и региональную безопасность на постсоветском пространстве, уже по определению вовлекая ее в сохранение мира и стабильности в зоне карабахского конфликта.
Наконец, в соответствии со статьей 2-й ДКБ союзники обязуются в случае возникновения «угрозы международному миру и безопасности государств… незамедлительно приводить в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы». Отказ от принятия адекватных «мер для устранения возникшей угрозы» для страны-союзника – Армении, повлечет самые серьезные последствия для ОДКБ и взаимоотношений Еревана с остальными своими союзниками. Справедливости ради надо отметить, что недавняя карабахская эскалация уже вызвала кризис доверия в отношениях Еревана не только с Минском, но и с Астаной, и даже с основным актором военно-политической интеграции на постсоветском пространстве в рамках ОДКБ – Москвой.
Изменятся ли отношения стран в ОДКБ?
В данном контексте основная проблема в военно-политическом взаимодействии и с Беларусью, и с остальными членами ОДКБ заключается в аморфности структур и алгоритма функционирования этой организации. На Южном Кавказе это фактически сводит ОДКБ к двустороннему, армяно-российскому военно-политическому формату, снижая способность организации полноценно реагировать на актуальные региональные вызовы и угрозы. Давно уже стало привычным утверждение, что ОДКБ – это не одна, а фактически три региональные структуры, формально объединенные благодаря России под одним военно-политическим «зонтиком». В двустороннем формате ОДКБ функционирует не только на Южном Кавказе, увязываясь с тенденцией создания региональных подсистем безопасности (или регионов коллективной безопасности) в рамках общей структуры ОДКБ. Это объективно продиктовано тем, что государства-участники ОДКБ, за исключением разве что России, не рассматривают многие вызовы или угрозы в других регионах постсоветского пространства как непосредственно касающиеся их собственной национальной безопасности и жизненно важных интересов.
Очевидно, что у всех стран-членов ОДКБ есть собственные приоритеты и интересы в своей политике на постсоветском пространстве. Поэтому также вполне естественно, что у Беларуси тоже есть свои собственные интересы в торгово-экономическом и политическом взаимодействии не только с Арменией, но и с Азербайджаном, руководство которого в свое время даже оказывало финансовое содействие Минску в период кризиса в российско-белорусских экономических отношениях. Не надо также забывать, что Беларусь, являясь военно-политическим союзником Армении, также выступает одним из основных партнеров Азербайджана в военно-технической сфере (следуя в этом плане примеру России – в последние годы выступающей в качестве основного поставщика современных вооружений Баку, что в настоящее время также представляет собой серьезную проблему в отношениях между Ереваном и Москвой).
Несмотря на это, позиция официального Еревана во взаимоотношениях с Минском на этом фоне заключается в том, что с учетом имеющейся совокупности взаимных обязательств и членства в ОДКБ и ЕАЭС Беларусь, как и все остальные страны-члены этих организаций, не должна подвергать риску свои союзнические и партнерские обязательства отношениями с третьими странами. Очевидно, что иначе это непосредственно скажется не только на двусторонних отношениях, но и на авторитете указанных организаций, и их дальнейшем эффективном функционировании. Впрочем, военно-политические и социально-экономические процессы на постсоветском пространстве в настоящее время приобретают более негативный характер, что и в дальнейшем может создавать отрицательный фон во взаимоотношениях не только между Арменией и Беларусью, но и между многими другими постсоветскими странами.
Все это вынуждает Ереван и Минск искать более гибкие механизмы сохранения и развития двусторонних и многосторонних партнерских взаимоотношений друг с другом. Тем не менее, вряд ли апрельский эпизод каким либо образом кардинально скажется на долговременном формате армяно-белорусских взаимоотношений или на параметрах сотрудничества и взаимодействия двух стран в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Армения и Беларусь кардинально менять свои подходы друг к другу не будут, хотя и должны ответственнее учитывать интересы друг друга, в том числе – по наиболее чувствительным проблемам. Не будет радикально изменено после апрельского обострения в Нагорном Карабахе и само отношение Еревана и Минска к указанным экономическим и военно-политическим организациям, разве что жесткого прагматизма и критического реализма в их политике станет больше, особенно в позиции армянской стороны.
Сергей Минасян, д.полит.н., заместитель директора Института Кавказа (Ереван, Армения)










