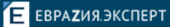Сергей Кондратьев
ДЕНЬГИ
17 января
Литва теряет статус транзитной державы.
ДЕНЬГИ
16 ноября
Минску невыгодно останавливать транзит в Европу.
ДЕНЬГИ
27 сентября
Договоренности с Москвой позволят Минску ощутимо сэкономить на фоне роста мировых цен на топливо.
ДЕНЬГИ
17 мая
Что проект строительства станции дал Москве и Минску.