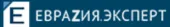Москва сделала геостратегический выбор поддерживать Минск.
Новая Стратегия национальной безопасности России: сигнал для ЕАЭС
3 июля вступила в силу обновленная Стратегия национальной безопасности России. Как отмечал ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пересмотр документа обусловило, в частности, нарастание противоречий со стороны Запада и усиление недружественных действий против Москвы. Какие приоритеты обозначены в Стратегии и какой сигнал они несут партнерам России по ЕАЭС, проанализировал профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.
Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Дальневосточном федеральном университете с программными тезисами о внешнеполитических приоритетах России и о рисках для развития российской государственности могло бы рассматриваться как просто знаковое, если бы оно не замыкало серию выступлений и печатных материалов, характеризующих глубокое изменение сущности российской внешней политики.
Статья президента России Владимира Путина в немецкой газете Die Zeit, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, выступления министра обороны России Сергея Шойгу и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева на IX Московской международной конференции по безопасности и, наконец, утверждение президентом России новой версии Стратегии национальной безопасности страны в совокупности означают формирование обновленной системы приоритетов внешней политики и политики в сфере безопасности, понимаемой в широком смысле. По сути, за относительно короткий срок – два месяца – Россия обозначила в различных форматах, но на высшем политическом уровне новое видение своего места в глобальных процессах.
Форматы, выбранные российским руководством для обозначения приоритетов развития, говорят о том, что сказанное и написанное – прежде всего, сигнал для внешнего мира о предельных рамках диалога с Москвой. Это важный момент, фиксирующий то неприятное для ряда «партнеров» России обстоятельство, что российская политика выходит в состояние системной преемственности и перестает зависеть только от позиции нескольких лиц, заменой которых можно было, как считалось на Западе, добиться стратегического изменения курса. Отсутствие со стороны «коллективного Запада», даже на экспертном уровне, значительной реакции говорит не об отсутствии интереса к новым заявлениям Москвы, а, напротив, о попытке осмыслить изменения.
Стратегия национальной безопасности как рамки политики
2 июля 2021 г. президент России утвердил новую редакцию Стратегии национальной безопасности, заменившую предыдущую версию от 2016 г. Разница в документах сводится к следующему:
● Концептуальной основой Стратегии 2016 г., несмотря на существенные различия по сравнению с предыдущей версией, утвержденной в 2009 г., оставалась вера в то, что трудности в отношениях России и Запада – временные, а американоцентричная модель глобализации непоколебима. Ее просто нужно подкорректировать и сделать более справедливой. Это, по сути, была Стратегия «надежды на возвращение к нормальности», на восстановление правил игры и партнерских отношений с Западом.
● Нынешняя версия констатирует, хотя и в достаточно мягкой форме, невозможность восстановления прежних правил игры. Это «Стратегия жесткой конкуренции» за место в постглобальном мире, но еще не противоборства. В этом документ отражает подход Кремля к внешней политике как к сфере диалога – читай вопросов к партнерам, понимают ли они, что творят – где возможны ситуативные союзники, желающие избежать скатывания в неконтролируемую эскалацию, помогающие выиграть время для социально-экономической модернизации.
Если обобщить, то главное в новой версии Стратегии, – создание условий для социально экономической модернизации страны, причем не с целью повышения конкурентоспособности страны на мировой экономической арене, что было явным мотивом в Стратегии 2016 г., а преимущественно для внутреннего развития.
И это – стратегически значимая новация. Но она отражает не просто некие аналитические построения и баланс сил в элите. Она отражает переосмысление властью и элитой своего места в новом мире.
Четыре краеугольных камня и три столпа в основание будущего
Если обобщать ключевые тезисы и намеки на них, сформулированные российской властью, то мы увидим, что на сегодняшний день конструкция состоит из четырех краеугольных камней, определяющих фундаментальные основы политики, и трех «столпов», формирующих текущую политику Москвы.
Четыре краеугольных камня выглядят следующим образом:
● Суверенитет. Россия суверенна сама и видит своими партнерами только страны, разделяющие принцип суверенной политики и суверенного развития. Только суверенные страны и народы, а не находящиеся под внешним управлением, могут планировать свое развитие и будущее и брать обязательства и ответственность перед партнерами. По сути, новые российские подходы – приглашение к суверенности для других стран вне зависимости от их политических систем.
● Приоритет внутреннего развития, что на практике означает ориентацию на ускоренную социально-экономическую модернизацию, – единственный эффективный противовес сценариям хаотизации, становящимся основой политики «коллективного Запада» в отношении и России, и Евразии в целом.
● Приоритет Евразии как направления политики в сфере безопасности и развития, что, фактически, является возвращением к ситуации начала 2000‑х гг. Но тогда, столкнувшись с противодействием со стороны элит постсоветских государств в сфере политической интеграции, Москва сменила вектор, перейдя к политике экономизации отношений с Евразией и приоритету выстраивания отношений с игроками за ее пределами, в частности, со странами BRICS.
● Безусловная военная безопасность, становящаяся в условиях разрушения всей институциональной структуры мировой политики важнейшим инструментом принуждения к диалогу, но не являющаяся, как следует из Стратегии национальной безопасности, панацеей в условиях гибридизации рисков. Увод военно-политической, в том числе, и стратегической составляющей на второй план в новой Стратегии, похоже был серьезной неожиданностью для партнеров России.
Три столпа, обеспечивающие эффективность текущей политики, также обозначены вполне отчетливо и прозрачно и, по большому счету, не являются чем-то революционным.
● Понимание почти универсального комплексного (в чем-то и гибридного) характера развития в современном мире, невозможности разделения внешних и внутренних приоритетов. Это означает одновременно и невозможность дальнейшего усиления влияния России на внешнем контуре, и невозможность замкнуться в «ракушку» существующих границ.
● Приоритетность Восточной и Юго-Восточной Азии для глобального политического и экономического развития. В выступлении Лаврова это было подчеркнуто особо, что означает: Россия собирается принимать активное участие в «новой институционализации» в регионе, потенциально охватывающей как экономическое, так и военно-политическое измерение. Россия начинает постепенно преодолевать политический европоцентризм, когда «разворот на Восток» рассматривался лишь как инструмент улучшения позиций на Западе.
● Невозможность отрыва текущей политики от истории, а вместе с этим и от традиций, прошлого. Москва не будет жертвовать ценностями своей истории ради политической целесообразности и сохранения внешних дружеских отношений. Это – очевидный сигнал постсоветским элитам Евразии о неприемлемости русофобии даже в качестве тактического компонента политики.
Стратегия комплексного суверенитета
Если обобщить, главная стратегическая новация сформулированных Москвой подходов – комплексное понимание суверенитета как не только правового и политического явления, что закреплено принятыми поправками в Конституцию страны, но охватывающего все основные сферы и текущей, и перспективной политики, включая и вопросы социально-экономического развития и социальной политики. Это делает невозможным сохранение суверенитета только на политико-пропагандистском уровне. Это потребует практических изменений в различных сферах развития, включая и сферу политического управления.
Если российскому руководству удастся трансформировать рассмотренные выше политические постулаты в конкретные решения по каждой сфере, мы действительно увидим революцию целеполагания, имеющую совершенно конкретные последствия и во внутренней, и во внешней политике.
Экономический суверенитет, опирающийся на социально-экономическую связность общества и взаимодействие общества и государства, становится приоритетом развития. Конечно, с учетом известной непоследовательности российской экономической политики и существования ощутимых рудиментов глобалистского либерализма, ставящего стратегической задачей интеграцию в глобальную экономику, реализация экономического суверенитета, подразумевающего геэкономическую самодостаточность России, будет идти сравнительно медленными темпами. Хотя нельзя не отметить уже начавшиеся изменения системы управления социально-экономическим развитием (кураторство регионов), что направлено как раз на усиление синергии экономического развития.
Важно, что естественной сферой, где эти принципы будут воплощаться в жизнь в первую очередь, будут отношения со странами постсоветской Евразии. Их, вероятнее всего, ждет серьезная ревизия.
Евразия в условиях постглобальной неопределенности
Формулирование Москвой новых приоритетов развития становится проблемной ситуацией для существенной части постсоветских элит. Помимо декларации претензий Москвы на статус «ядра» макрорегиона «Евразия и окрестности» (отметим акцент на развитие отношений в формате «ЕАЭС+» с наиболее значимыми партнерами), что не является новостью в постсоветских столицах, подходы, обозначенные Кремлем, фактически, обнуляют надежды на возвращение к системе «покупки лояльности», практиковавшейся Россией в конце 1990‑х – 2000‑х гг.
Но главное то, что подобная «новая реальность» была обозначена с максимально возможной в сфере международной политики прозрачностью, в момент, когда ситуация для целого ряда постсоветских государств, действительно, начинает приобретать форму глубокой стратегической неопределенности.
Обозначим рамки:
Отношения без стратегических обязательств, что на примере Афганистана обозначил Вашингтон, с одной стороны. Сама по себе такая политика в условиях сохранения политической нестабильности в Вашингтоне является естественной, но применительно к конкретным регионам демонстрирует переход США к флюидным союзническим отношениям даже по отношению к тем элитам, в отношении которых ранее брались жесткие обязательства.
Возвращение Пекина, хотя и, безусловно, в более деликатной форме, к стратегии «секторальной экстерриториальности», с другой стороны. Пекин вряд ли в ситуации геэкономической неопределенности будет готов вернуться к политике «неограниченных инвестиций в будущее», на что рассчитывали многие в постсоветской Евразии на начальных этапах выхода КНР из пандемических ограничений.
Откровенная демонстрация деградации глобальной роли и несамостоятельного характера политики Европейским союзом и на уровне наднациональных структур, и на уровне отдельных государств, с третьей стороны. Вряд ли ЕС и входящие в него страны могут рассматриваться даже в качестве политической «ставки» в современных условиях, да и функция «безопасного убежища» для евразийских элит и их капиталов встает под большой вопрос в условиях ужесточения США «антикоррупционных» процедур.
На фоне возникновения теперь уже очевидного очага военно-силовой, а не только военно-политической нестабильности в Афганистане, это ставит перед страновыми элитами проблему уже не выбора наиболее комфортного партнера для интеграции в глобальную политику и экономику (для евразийских элит «комфортным партнером» Москва быть не могла в силу очень многих причин, в том числе, и историко-политических), а гаранта выживания и безопасного развития, причем не в краткосрочной перспективе, а, как минимум, на среднесрочную, на период 7-10 лет. А это уже подразумевает не просто согласие на политическую интеграцию, а ценностное взаимодействие не только в политике, но и в социально-экономическом развитии, хотя на первом этапе и только в такой специфической сфере, как отношения в области безопасности.
Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ ВШЭ